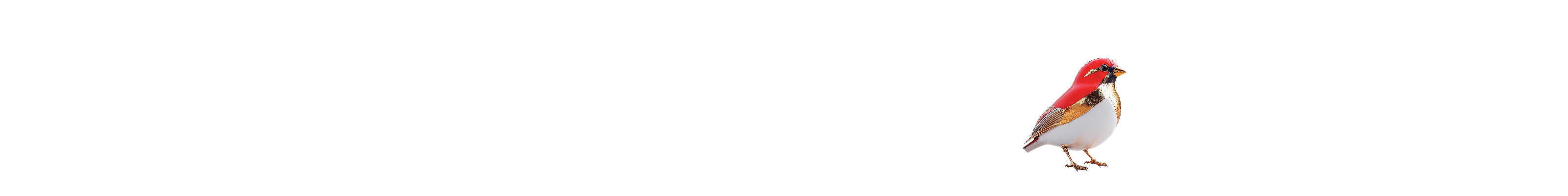«Четыре часа в день меня превращали в Гитлера»
[i]У него внешность старорежимная – интеллигента прошлого, а может, и позапрошлого века. Костюм-тройка, бородка, очки, благородная петербургская неспешная речь без всяких пошлых «короче» и «прикинь». Не зря Леонид Мозговой играл в кино Чехова. Но и – Гитлера. А также – Ленина. И всегда полностью перевоплощаясь в своих героев. Этот дар хамелеона первым в нем разглядел Александр Сокуров. А между тем Мозговой уже два десятка лет создает удивительные моноспектакли по русской классике.[/i][b]– Глядя на вас, Леонид Павлович, скажешь – вот коренной настоящий питерец![/b]– А вот и нет. У меня папа был военный, я мотался с родителями по всей стране. Школу окончил на Урале в закрытом городе Свердловск-44. Там же увлекся чтением. У меня до сих пор хранится вэфовский приемничек «Турист», и он еще работает. Это моя первая награда – за чтение стихотворения в прозе Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…»[b]– А сегодня фильмы с вашим участием показывают в Каннах. А что труднее – читать со сцены или играть?[/b]– На мой взгляд, искусство чтеца более трудное и глубокое, чем драматическое. Ты сам ищешь себе репертуар, сам ставишь, сам играешь. Вот я много читал Чехова, а недавно меня пригласили играть Андрея Прозорова в «Трех сестрах», и мне гораздо легче работается, чем при подготовке моноспектакля.[b]– Чтобы читать со сцены, надо иметь незаурядную память.[/b]– У меня в голове 26 часов текста – 15 спектаклей. Но, кроме образа, должен еще быть сверху авторский взгляд. А это самое трудное.[b]– Почему все-таки жанр моноспектакля исчезает с нашей сцены?[/b]– Не знаю. Но мне очень жаль. Расцвет его пришелся на 20–30-е годы прошлого века. В 60-е я еще застал асов… Мы ездили, гастролировали. Сейчас это невозможно. Все подчинено шоу-бизнесу. Но это же не искусство, это завод для молодежи, но уму и сердцу – ничего. А вот для меня важнее сыграть 700 раз для 20 человек. Для меня большое удовольствие, когда с глазу на глаз доношу великие слова… [b]– Получается, у вас больше просветительная задача?[/b]– Да! И этого не стесняюсь. Ведь у мастера художественного слова (кем я числюсь по трудовой книжке) должна быть концепция – во имя чего ты это делаешь. Хотя и у меня был очень смешной спектакль. Но тоже не просто развлекательный, не просто «животики надорвать». Пародия на сатирика Александра Иванова. Ведь что такое пародия? Это не издевательство, а очень важный жанр. Иванов считал себя чистильщиком общества. Он был на моем спектакле и написал мне потом несколько теплых писем.[b]– Как долго готовится спектакль?[/b]– Полгода уходит на то, чтобы сделать композицию. Потом года полтора она обкатывается.[b]– В кино вы сыграли Гитлера и Ленина…[/b]– Это заслуга, конечно, Сокурова, который увидел их во мне. Работать с ним – счастье. Он так заботится об актерах! На съемках в другом городе пока не поселит нас, сам в гостиницу не селится.[b]– А как он предложил вам – Гитлера?[/b]– Я пришел. Он предложил мне сесть. И сказал. Я потерял дар речи. Дома взял старую карточку, пририсовал усики, чуб. Думаю: может быть, и получится. Хотя глаза не загримируешь… Когда готовился, смотрел фотографии великих актеров МХАТа. В каждой роли у них разные глаза. Это зависит от внутреннего состояния. В этом – система Станиславского! Все уже открыто, все найдено…[b]– И каков он, ваш Гитлер?[/b]– Фанатик. Несостоявшийся человек. Он ведь хотел быть архитектором. Рисовал. Его рисунки появляются у нас в фильме.[b]– Он вызывает сочувствие?[/b]– Он – нет. А вот Ленин – да. Я посмотрел через четыре месяца, что мы сняли, и мне стало его невыносимо жалко. Я понял, в чем гуманизм Сокурова. Он снизил образ Ленина от вождя до человека, но не унизил его. Герой вызывает сочувствие, сострадание.[b]– А эти герои не давили на психику?[/b]– У меня не бывает таких страшных депрессий, когда хочется застрелиться. Я спокоен. Это хорошие роли. И в этом тоже – система Станиславского! Не я – Гитлер, не я – Ленин. Хотя мне было приятно, когда Сергей Юрский, который знает меня с молодости, сказал: «Я смотрел на Гитлера и хотел найти хоть одну черточку Лени Мозгового. Не нашел».[b]– Речь о перевоплощении?[/b]– Оно совершенно исчезло в театре и кино. А ведь это главное в актерском искусстве. Перевоплощение, конечно, трудный процесс. Четыре месяца в половине девятого за мной приходила машина, в девять я садился на грим и до часа гримировался, потом обед, и до 9 вечера съемки. Но в этом – счастье! Все эти Канны – ерунда, я там два раза по лестнице ходил. Это все послевкусие. К тому же мы там никому не нужны. Там нужно продажное кино, а не элитарное.[b]– Сокуров никогда там ничего и не получал.[/b]– Канны перестали быть творческим фестивалем. Это коммерческий фестиваль. А вот в Локарно ему вручили «Серебряного леопарда». Вспомнили, что еще Тарковский сказал, что Сокуров – гений. К сожалению, у нас принято говорить о величии, лишь когда человек уходит из жизни.[b]– И в «Молохе», и в «Тельце» речь идет о морали и власти?[/b]– Власть всегда аморальна! Для нее не существует человека. Для есть лишь человечество. А люди искусства как раз видят человека… Сокуров снял три фильма на эту тему – «Молох», «Телец», «Солнце». Диктаторы ХХ века в личной жизни. С «Фаустом», правда, не знаю, как будет.[b]– Но Сокуров ничего не предлагает в своих фильмах. Он только фиксирует.[/b]– А почему он должен предлагать? Он же не идеолог, не политик. У него свой взгляд, который разделяют далеко не все. И фильмы его люди не знают. А у него 41 фильм! В Москве кассет не найти – только в Питере. Никто его у нас не пропагандирует…[b]– Недавно вы работали с Лопушанским в «Гадких лебедях». Снова трудный режиссер?[/b]– Я свое ногами уже отдрыгал. В двадцать лет. Носил на руках Богданову-Чеснокову в Театре музкомедии – в первом мюзикле Андрея Петрова.[b]– Стругацкие не устарели?[/b]– Что значит «устарели»? «Гадкие лебеди» – очень современное кино, потому что проблема выживания человечества всегда актуальна. Как ее решать? Надо учиться договариваться с людьми, которые не похожи на тебя (у нас в фильме это мокрецы); договариваться с детьми, которые не понимают взрослых и которых не понимают взрослые.[b]– Кого вы там играете?[/b]– Представителя международной комиссии. В вымышленном советском городе 60-х годов Ташлинске она расследует деятельность мокрецов, которые учат детей медитации, левитации и делают их Эйнштейнами.[b]– Это так называемые дети индиго?[/b]– Первые сообщения о них появились, когда сценарий уже писался. Наш фильм кричит: их надо не уничтожать, а принимать, окружать заботой.[b]– Но в картине все кончается очень минорно…[/b]– Естественно. Уничтожаются и мокрецы, и дети, которые остаются с ними до конца, наивно думая, что их вместе не убьют. Но для военных нет человека – есть враг.[b]– Я слышала, вы играете удивительный спектакль по Достоевскому в настоящей питерской коммуналке.[/b]– Да, «Сон смешного человека». Для 20 зрителей. Недалеко от «Ленфильма» – там настоящая мансарда, пятый этаж. Причем люди идут без всяких афиш, даже из Америки приезжают и просят показать.[b]– В Питере работать проще, чем в Москве?[/b]– А я в Москве практически не работаю. Меня у вас никто и не знает. Два раза, помнится, выступал с Окуджавой… А в Питере у нас есть фестиваль моноспектаклей. В нем принимают участие очень много актеров. Это же их самовыражение! Каждый берет то, что ему нравится… Но вообще чтецкое искусство умирает. Его надо поддерживать, дотировать.«Аншлаг» выживет сам – они ездят, собирают деньги. А смотреть – невозможно. Весь юмор – ниже пояса. А нас весь мир любит за классическую литературу XIX века. Там все: и юмор, и драма… и что угодно. Весь мир восхищается! И детям тоже нужно высокое искусство. Я читаю в школах «Черного монаха» – сложное произведение. И слушают! Парень один, выходя, сказал: «Клево!» Это для меня как аплодисменты. В этот момент я счастлив! А уж когда читаю в филармонии «Моцарта и Сальери», а хор поет «Реквием» Моцарта!.. Да, я сею разумное, доброе, вечное – и не стыжусь этого.[b]– Неужели откажетесь сняться в блокбастере?[/b]– Надо смотреть сценарий. Вот сейчас еду к Лунгину – там маленькая роль в фильме о Рахманинове.[b]– Фильм или спектакль могут перепахать человека?[/b]– На то время, что он сидит в зале, могут. Он другой становится. Лучше. А дальше – зависит от него самого. Если он хочет духовно развиваться, то будет. А не хочет – не заставишь никакими силами.[b]– А художественное слово на радио, на телевидении?[/b]– Одно время на телевидении был цикл передач – хорошие актеры читали замечательные произведения. Сейчас остались лишь аудиокассеты – для машин, с исполнителями не самого высокого… качества. А ведь еще Щепкин говорил: в театре либо священнодействуй, либо убирайся вон. Это – кафедра! Все другое – кафешантан. У нас все сейчас – кафешантан. Голые девочки, задиранье ног… И продажное телевидение. Рейтинг – надуманная вещь. Люди говорят: не можем это смотреть, тошнит уже. Но ничего больше не показывают! Получается замкнутый круг.[b]– Так что же – цензура?[/b]– Цензура не нужна – при условии, что она внутри каждого художника. А у нас это место все чаще занимает сексуальный порнограф. У них и деньги[b]– А что важнее – слово или образ?[/b]– Образ – визуальное понятие, а слово – реализованная мысль. Они действуют вместе.[b]– Леонид Павлович, вы – один в поле воин?[/b]– Не один, слава Богу. Нас мало, но мы в тельняшках. Сокуров, Герман... Вообще есть много думающих актеров.[b]– Счастливы, что выбрали такую тяжелую профессию?[/b]– Да. И мне очень повезло, что я встретил настоящих режиссеров. Думаю, мне многие завидуют белой завистью.