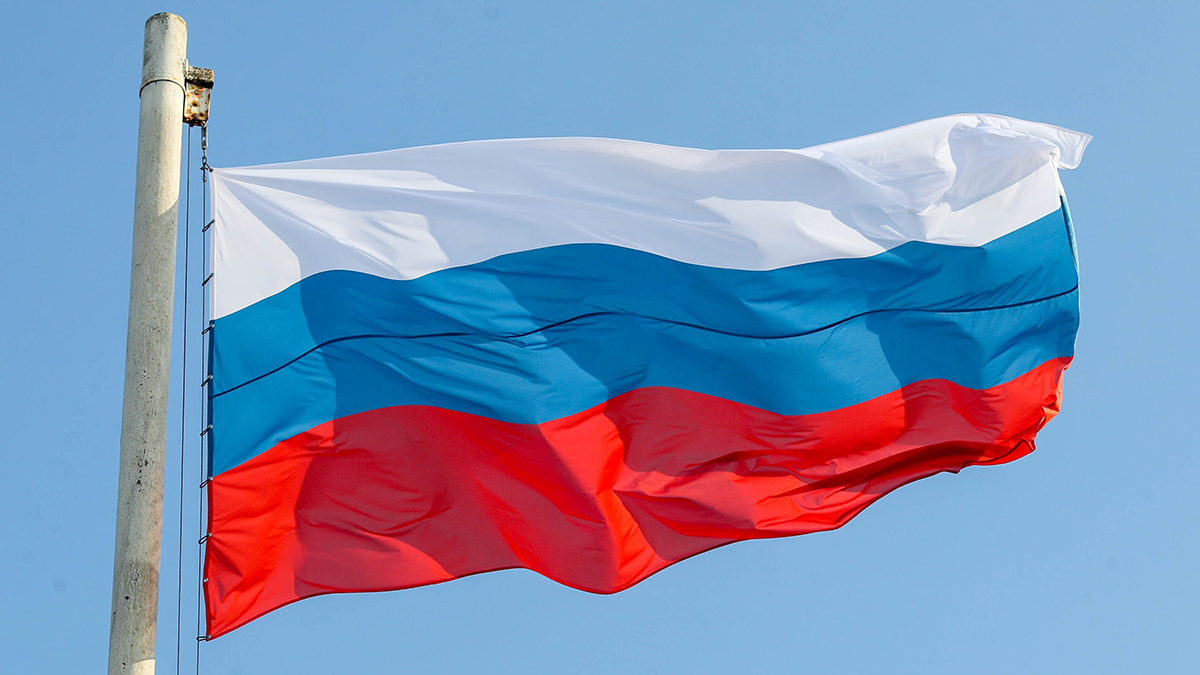Валентин Гафт: Важно не прослыть старым идиотом
Сюжет:
Литкафе «ВМ»Он успел и успевает очень многое: отметился в театре глубокими драматическими ролями, в кино — ролями разными, преимущественно причем играл разных характерных мерзавцев. Ну а на поэтической ниве сначала прославился едкими эпиграммами, потом — философскими и романтическими стихами, а еще пьесой, вызвавшей острые споры, восторг и неприятие. Более того.
Хороших поэтов у нас немало, но надо быть поэтом особенным, чтобы твои стихи взялся иллюстрировать сам Михаил Шемякин. Ну а теперь — занавес открывается. Наш гость — Народный артист РСФСР и поэт Валентин Гафт Мы решили поговорить с ним о поэзии, а выдающегося художника Михаила Шемякина попросили рассказать о том, как работалось над уникальной книгой «Ступени». И конечно, вас ждут стихи!..
...Идти на интервью к Гафту страшно. Вдруг и правда окажется «язвой»? Страхи исчезают уже у порога. Он прост и легок в общении, лишен звездности, и вообще...
— Ничего, что я в бороде? Это из-за спектакля.
Спектакль «Пока существует пространство», где на сцене лишь два актера — Валентин Гафт и Саид Багов, — стал в прошлом году событием в театральном мире, продолжает идти с аншлагами — лишние билетики на него спрашивают еще в метро.
— Отличная борода. Вам идет, кстати.
И это правда.
Но наш разговор будет не о бороде, и даже не об актерской стороне его жизни. О стихах. А начнем мы с обсуждения пьесы, которая взорвала общество, став спектаклем, и продолжает «аукаться» — автору в том числе. Пьеса потрясающая. Страшная. Живая. При том, что это — фантасмагория, веришь ей абсолютно.

ОКАЗАТЬСЯ НА «ОСТРИЕ»
— Валентин Иосифович, свой «Сон» вы написали десять лет назад, да? В нем, если кто не читал или не смотрел спектакля, любопытные герои — тут и Сталин, и Радзинский, и Зюганов. Удивительно, что написано это было до того, как в стране поднялась новая волна сталинизма. Выходит, вы опередили время. А с чего вдруг решили писать об этом?
— У меня отец был такой… Полувоенный человек. Всю войну он прошел. Когда он умер, я год спустя примерно открыл его стол. А там — пятнадцать портретов Сталина. Вырезки из газет и журналов, хорошего качества портреты… Он никогда и не обрушивался на систему, и не поддерживал ее. И тема эта дома не обсуждалась. Все было известно, конечно, и про допросы, и про расстрелы. В этом смысле, кстати, у нас счастливая семья — никого не расстреляли. Но эти портреты… Он мне ими попал куда-то, понимаете? Саднило так, что… Ну и спустя много лет вдруг возникло это — то, что написалось.
— А отчего перестали играть?
— Не знаю. Мне кажется, денег постановка особых не принесла, вот и… А сейчас я думаю: Виктюк хорошо спектакль поставил, но мы плохо эту пьесу играли. Плохо! Мне надо было ее читать одному.
— Может быть... В интернете же, кстати, обсуждать ее стали в большей степени после закрытия, когда фигура Сталина опять стала для общества водораздельной. Потому и отклики разные. Как всегда, когда упоминается имя вождя народов. Но вы, выходит, на самом острие оказались. «В тренде».
— Что разные — это нормально. Но штука-то в чем! Я ведь так и не нашел ответа, какой он, Сталин — плохой ли, хороший ли. И писал я ее, когда отношение к Сталину не было определено. То, что мне известно о нем, не предполагает обсуждения — страшный он был человек, Иосиф Виссарионович. Психически нездоровый! Но в то же время его уважали даже враги... И ни один лозунг не поднимал такого количества людей, да и не поднимет уже никогда, как «За родину, за Сталина!». Факт? Факт. Герой он или нет? Полагаю, у нас один герой — народ. Кстати, знаете, что поразительно? Пока я писал, так проникся всем этим, что сам внутри был похож на Сталина! По крайней мере, я так чувствовал.
— Но он же дьявол у вас…
— Нет. Точнее, отчасти. Когда говорит: «Страна трудилась, полстраны сидело. Но отчего так сладко сердцу пелось?» — да. Дьявол! А когда плачет по-детски, превращаясь вдруг в младенца, — нет. Эх, одному надо было читать! В пьесе есть и особая пластика. Когда видение у вождя, когда «текут по стенам кровь и слезы и обвалился потолок», он должен страшно закричать — «Пото-о-о-п!» Чтобы заледенело все. «Смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы…» Это неплохо, да?
— Это страшно. Очень. А Эдвард Станиславович Радзинский как ко всему этому отнесся? Вы же давно знакомы, в пьесах его играли. И тут…
— Играл! Я у Эдика был любимым артистом. И в «104 страницы про любовь» играл, и в «Аэлита, не приставай к мужчинам». И в «Обольстителе Колобашкине» играл, он мне там главную роль подарил — потрясающую! Я на ней учился, жаль, сняли спектакль быстро. Да, Эдик ко мне очень хорошо относился, а я вот взял и сочинил такое… Он и сейчас фактически со мной не разговаривает. Сначала, когда я ему сказал, что такая штука сочинилась, ему вроде бы даже все понравилось. А потом он заявил, что подаст на меня в суд. Не подал, правда. Но не общается. Все из-за конца пьесы, где он повторяет бесконечно: «Товарищ Сталин, я простить меня прошу, я все исправлю, все перепишу…» Иногда напишешь что-нибудь эдакое, а оно выходит боком.
— Но, если честно, это и правда обидно…
— Может, и обидно. Но пьеса же! У меня в книге вон взяли и вычеркнули из нее фразу «Народ безмолвствует, безмолвствует народ». И я тоже обиделся. И хоть ничего из себя особенного не представляю, даже скандал устроил — насколько могу.
— А как вообще вы начали писать?
— Случайно. Лет пятьдесят назад мы с поэтом Валерием Краснопольским брели по Кишиневу после концерта. Мы туда приехали по приглашению общества книголюбов; за выступление платили копейки, но мы ездили — куда деваться. А Валера такой — любит поговорить, завести. В общем, мы шли, болтали о чем-то, и я ему говорю: слушай, а давай я буду стихи сочинять? Как в сказке, честно. Вот, говорю, капелька дождя. Давай я про нее сочиню. И сочинил. А прошло много лет, и вдруг это стихотворение начало обретать глубокий смысл. Когда сочинял — сам не понял, что вышло! А вышло… неплохо.
— Да отлично вышло! Даже не верится, что это — первое стихотворение, написанное походя.
— Оно у меня одно из лучших. Первые стихи — они и были самыми хорошими. Я вас не обманываю! Но меня спасает знаете что? Что я никогда не восхищался ничем из того, что написал. Помню, тот же Краснопольский позвал меня как-то в Дом литераторов, там давали премии лучшим поэтам года. И руководил всем этим один человек с забавной фамилией. Он читал со сцены свои стихи, и они были ужасными. И я вылез. Сказал, что я не Маяковский, конечно, так, сочиняю потихоньку, и даже прочел что-то по просьбе из зала. Но с тех пор в ЦДЛ на такие вечера не ходил.

А ВСЕ — ИЗ-ЗА ЛЮБВИ…
— Слушаю я вас и думаю, что плохо, когда нет самоиронии. Но у вас она чрезмерная.
— Да ладно! Мы, кстати, с Краснопольским не общались много лет, потом он позвонил и говорит: «Валька, а ты помнишь, что начал стихи сочинять со мной?» Я говорю: «Помню. Но шедевров — нет!» А он мне про эту капельку дождя напомнил.
— То есть ваш «крестный отец» в поэзии — Валерий Краснопольский.
— Он и Саша Орлов, актер и режиссер. Человек, который может все, но не на все у него хватает духу. Сашка пришел навестить меня в больнице, когда мне на спектакле «Плаха» по Айтматову оторвали бицепс. Дурацкая история: мы с партнершей договорились, что она должна дергать винтовку вниз — в сцене, когда я готовлюсь к убийству. Но она дергала не так, я разозлился, рванул вверх… Ну и все, травма. А потом за кулисами я решил проверить, что с рукой, и подтянулся, дурак! Ну вот, пришел меня Сашка навещать, а мне свет не мил, делать ни хрена не могу, сижу на кровати. Давай, говорю ему, Сашка, бумагу — буду стихи сочинять. Он говорит — а точно, сочиняй. Пушкина-то не получилось, конечно. Смеюсь… Не подумайте только, бога ради, что я старый идиот и что-то такое пытаюсь о себе присочинить. Это началось как развлечение. Просто стихи сочиняются, когда плохо.
— Когда хорошо — не сочиняются?
— Сочиняются, но смешные. Сашка мне дал карандаш, и я написал:
На сцене Плаха. Все фатально.
Беда должна была случиться.
Я пересек границу Тайны,
За это надо расплатиться.
Когда придут в разгар Игры
Семерка, Тройка, Туз — не ахай!
Невидимые топоры
Всегда висят над нашей Плахой.
Загадка есть — Разгадки нет,
Я наступил на темя Ямы,
Где кровь смывает с рук Макбет
И дремлет Пиковая дама.
«Невидимые топоры всегда висят над нашей Плахой» — ничего, да?
— Ничего? Это сильно.
— Так все и завертелось. Стихи — это уточнение биографии... Я стал пописывать. Дома всех достал, вечно лез со своим: «Я почитаю стихи?» А потом начал в театре организовывать капустники. Тогда и эпиграммы пошли. Некоторые выходили жуткими, это я понимаю. Некоторые ничего, довольно изящные. Был вот замечательный артист — Саша Иванов.
— Который «Вокруг смеха» вел?
— Ага. Его все боялись, а он боялся меня. Я ему написал:
Я Сашеньку люблю давным-давно,
он худ , опрятен, говорит любезно,
но нюх такой на свежее говно,
что рядом ковыряться бесполезно.
— Скажите лучше, кто вас не боялся. На такой язык попадешь — греха не оберешься, разве нет? Кстати, вы и сейчас их сочиняете?
— Иногда. Но некоторые получаются такими, что читать никак нельзя.
— Неполиткорректно и нетолерантно?
— Вроде того.
— Всегда было интересно, как вы могли писать так наотмашь. Друга Козакова приложили «отсутствием мужского конца». А другие строки какими зубодробительными выходили! Как вы могли не бояться реакции людей?
— А! Вы еще Михалковых мне припомните! Которых мне приписали! «Как вы могли…» Я Никиту обожаю, но этим «михалковским зудом» меня полжизни доставали.
— Ну а злобная эпиграмма Гундаревой? Про «успех в роскошном теле...»?
— Наташа... Я ее обожал. Однажды мне вручали премию, и она сказала мне: «Какой вы талантливый!» Меня теплом заволокло, такая она была! Ничего подобного я ей не писал, не смог бы никогда! Моя боль — что она ушла, а я не успел ей сказать, что эту гадость не я сочинил.
— Она никогда не спрашивала? Значит, и не верила, что вы.
— Надеюсь. Но знаете, какой это ужас... Я приезжаю в провинцию с концертами, так люди такие изумительные... И обязательно выясняется, что недавно там какое-нибудь местное издательство выпустило книжечку моих эпиграмм. Без всякого согласия, без всякого разрешения. Из 20 эпиграмм в ней 18 — не мои. А поди докажи! Пусть этот идиотизм останется на совести тех, кто мне их приписывал — гаденькие. Мои могли быть острыми, да. Но тот поток пошлятины, что именуется «гафтовскими», как правило — не мой. Все с Рязанова началось: он меня пригласил в «Кинопанораму» и я там что-то прочел. И понеслось. А ведь на самом деле я стал сочинять эпиграммы тем, кого любил и люблю. Это все из-за любви.
— Из-за любви? Даже острые?
— Да, и боли по тем, кто ушел. Когда-то это были эпиграммы, а когда-то — портреты. Раневской вот... Знаете, что она всю жизнь любила одного мужчину? Пушкина! Он ей заменял всех. Я с ней не был знаком, один лишь раз только мы с Игорем Квашой пошли ее поздравить после спектакля, Игорь постучал, и она в своей манере ответила через дверь: «Сейчас, секундочку, я переоденусь, чтобы вас не стошнило...» Такая вот была... Я написал ей стихи, и вышел портрет, и стихи вышли хорошими, мне кажется: «Голова седая на подушке...» И Мандельштаму неплохое посвящение: «И стихов замерзших строки на обкусанных губах…» Никакого там зла. Но и про хорошие мои стихи могут сказать — примитив. Сейчас иначе пишут.
— Это кто вам сказал? Стихи пишут разные. Некоторые — и правда с претензией такой, что… Такая в них... псевдовесомость.
— Иногда мне кажется, что делают их так: взяли что-то у Маяковского, чуть-чуть не дописали, в одном месте — специально оборвали, потом перемешали все и выдали за стихи. Что получается — не понять. Я одному известному поэту как раз в тему написал:
На струнах обвисших бренчит аккорды —
То ли загадки, то ли кроссворды.
Кто ты, поэт? Ежик в тумане,
Платочек на шее да фига в кармане.
Money, money, money…
— Остро. Но вы все же очень язвительный.
— Но честный! Еще про Охлобыстина нравится самому:
Он священник был в артисте и артист в священнике,
Охломон и Охлобыстин — как цветок на венике.
Иван не обиделся, кстати. Ему вроде даже понравилось. Еще что вспомнить из относительно недавнего… Вот!
Вчера весь вечер слушал Лепса,
и до сих пор не успокоюсь:
Он так орал, идя по рельсам,
что испугался встречный поезд.
— Тоже вряд ли обидится — смешно. А Евтушенко? Ну правда, Валентин Иосифович, жестоко вы Евгения Александровича приложили: «Уж больно смел, когда не страшно»…
— Да, «умен, когда и так понятно»… Женя был великодушным. Он после появления этой эпиграммы спросил у меня — Валь, за что? И я ответил честно, повторив то, что говорил вам: из-за любви. Как еще объяснить? Вот я люблю девушку, а у меня ничего не получается с ней. Злюсь! Из-за ревности написал, да. Женя понял и простил. Я ведь влюбился в него давным-давно, мальчишкой, еще когда он приходил к нам в студию МХАТ — шикарный, красивый, в каких-то красных штанах, купить которые можно было лишь где-то «там». Он читал стихи, и мы балдели. Да, я его любил! И вот такое написал при этом. Я, кстати, не так давно видел картину про шестидесятников.
— «Таинственную страсть», наверное?
— Вроде да. И даже не понял, а что это они такое сделали? Чулпан Хаматова, правда, играет потрясающе. Но вообще бог с ним, с фильмом, главное — не забывать это время, когда вдруг как из ниоткуда появились эти прекрасные птенцы. А Нагибин какой в фильме? Никакой! А я его знал. Он потрясающий был! Острый человек! Он раздевает тебя и убивает, если хочет. Но, кстати, если он пишет плохо, это вовсе не значит, что он так думает. Это… накипь.
— У вас тоже — накипь?
— И у меня накипь. От накипи дышать трудно...

СТИХИ
Уже от мыслей никуда не деться.
Пей или спи, смотри или читай,
Все чаще вспоминается мне детства
Зефирно-шоколадный рай.
Ремень отца свистел над ухом пряжкой,
Глушила мать штормящий океан,
Вскипевших глаз белесые барашки,
И плавился на нервах ураган.
Отец прошел войну, он был военным,
Один в роду, оставшийся в живых.
Я хлеб тайком носил немецким пленным,
Случайно возлюбя врагов своих.
Обсосанные игреки и иксы
Разгадывались в школе без конца,
Мой чуб на лбу и две блатные фиксы
Были решенной формулой лица.
Я школу прогулял на стадионах,
Идя в толпе чугунной на прорыв,
Я помню по воротам каждый промах,
Все остальные промахи забыв.
Иду, как прежде, по аллее длинной,
Сидит мальчишка, он начнет все вновь,
В руке сжимая ножик перочинный,
На лавке что-то режет про любовь.
Живых все меньше
Живых все меньше в телефонной книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были они, в раю или в аду.
Пока трепались и беспечно жили —
Кончались денно-нощные витки.
Теперь о том, что недоговорили,
Звучат, как многоточия, гудки.
Пес
Отчего так предан Пес,
И в любви своей бескраен?
Но в глазах — всегда вопрос,
Любит ли его хозяин.
Оттого, что кто-то — сек,
Оттого, что в прошлом — клетка!
Оттого, что человек
Предавал его нередко.
Я по улицам брожу,
Людям вглядываюсь в лица,
Я теперь за всем слежу,
Чтоб, как Пес, не ошибиться.
Хулиганы
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.
Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.
Что за манера — сразу за наган,
Что за привычка — сразу на колени.
Ушел из жизни Маяковский-хулиган,
Ушел из жизни хулиган Есенин.
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.
Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны…
Горит на небе новая Звезда,
Ее зажгли, конечно, хулиганы.
Капелька дождя
К земле стремится капелька дождя,
Последнюю поставить в жизни точку…
И не спасут ее ни лысина Вождя,
Ни клейкие весенние листочки.
Ударится о серый тротуар,
Растопчут ее след в одно мгновенье,
И отлетит душа, как легкий пар,
Забыв навек земное притяженье.
Бык
Не знает глупенький бычок,
Что день сегодняшний — день казни.
Он — как Отелло — на платок,
Но Яго — тот, который дразнит.
А вот и сам Тореадор,
Как Гамлет вышел — одиночка,
Каким же будет приговор?
В нем есть и смерть… и есть отсрочка.
А те, которые орут,
Они преступники иль судьи?
И, как ни странно — это суд.
И, как ни странно — это люди.
Грехи
«Ах, если бы она была жива,
Я все бы отдал за нее, все бросил».
Слова, слова, слова, слова, слова,
Мы все их после смерти произносим.
И пишутся в раскаяньи стихи,
Но в глубине души навеки будут с нами
Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи,
Которые не искупить словами.
Пастернаку
Он доживал в стране как арестант,
Но до конца писал всей дрожью жилок:
В России гениальность — вот гарант
Для унижений, казней и для ссылок.
За честность, тонкость, нежность, за пастель
Ярлык приклеили поэту иноверца,
И переделкинская белая постель
Покрылась кровью раненого сердца.
Разоблачил холоп хозяйский культ,
Но, заклеймив убийства и аресты,
Он с кулаками встал за тот же пульт
И тем же дирижировал оркестром.
И бубнами гремел кощунственный финал,
В распятого бросали гнева гроздья.
Он, в вечность уходя, беспомощно стонал,
Последние в него вбивались гвозди.
Не много ли на век один беды
Для пытками истерзанного мира,
Где в рай ведут поэтовы следы
И в ад — следы убийц и конвоиров.
Мандельштаму
Мы лежим с тобой в объятьях
В январе среди зимы.
Мой халат и твое платье
Обнимаются, как мы.
Как кресты на окнах рамы.
Кто мы, люди? Мы — ничто.
Я читаю Мандельштама.
А в душе вопрос — за что?
Ребра, кожа, впали щеки,
А в глазах застывший страх.
И стихов замерзших строки
На обкусанных губах.
Артист
Артист — я постепенно познаю,
Какую жизнь со мной сыграла шутку злую:
Чужую жизнь играю, как свою,
И, стало быть, свою играю, как чужую.
Фаина Раневская
Голова седая на подушке.
Держит тонкокожая рука
Красный томик «Александр Пушкин».
С ней он и сейчас наверняка.
С ней он никогда не расставался,
Самый лучший — первый кавалер,
В ней он оживал, когда читался.
Вот вам гениальности пример.
Приходил задумчивый и странный,
Шляпу сняв с курчавой головы.
Вас всегда здесь ждали, Александр,
Жили потому, что были Вы.
О, многострадальная Фаина,
Дорогой захлопнутый рояль.
Грустных нот в нем ровно половина,
Столько же несыгранных. А жаль!
Поле
М. Козакову, режиссеру телефильма «Случай в Виши»
Я — поле, минами обложенное,
Туда нельзя, нельзя сюда.
Мне трогать мины не положено,
Но я взрываюсь иногда.
Мне надоело быть неискренним
И ездить по полю в объезд,
А заниматься только рысканьем
Удобных безопасных мест.
Мне надоело быть безбожником,
Пора найти дорогу в Храм.
Мне надоело быть заложником
У страха с свинством пополам.
Россия, где мое рождение,
Где мои чувства и язык,
Мое спасенье и мышление,
Все, что люблю, к чему привык.
Россия, где мне аплодируют,
Где мой отец и брат убит.
Здесь мне подонки вслед скандируют
Знакомое до боли: «Жид!!!»
И знаю, как стихотворение,
Где есть смертельная строфа,
Анкету, где, как преступление,
Маячит пятая графа.
Заполню я листочки серые,
На все, что спросят, дам ответ,
Но что люблю, во что я верую,
Там нет таких вопросов, нет!
Моя Россия, моя Родина,
Тебе я не побочный сын.
И пусть не все мной поле пройдено,
Я не боюсь смертельных мин.
*
Когда настанет час похмелья,
Когда придет расплаты срок,
Нас примет космос подземелья,
Где очень низкий потолок.
Бутылка там под ним повисла,
Как спутник в невесомой мгле,
И нет ни в чем ни капли смысла,
Весь смысл остался на земле.
«Мне снился сон...»
Отрывок из пьесы
Эту убийственно-ироничную
антиутопию невозможно
пересказать. Но беседы
Вождя народов с героями наших
дней и минувшей эпохи —
Жуковым, Шостаковичем,
Бухариным, Радзинским,
Зюгановым и... самим Христом
не просто не оставят
равнодушными, но и заставят
о многом задуматься. Одна
из последних сцен.
Сталин (задумчиво):
Мне снилось, будто бы на даче
Больной свалился на пол я...
Политбюро стоит и плачет,
Но вытирает ноги об меня!
Шумя водой открылись краны,
И заливает всюду пол.
Я как дитя упал с дивана,
А кто-то лезет мне в карманы,
И кто-то влез уже в мой стол!
Сплошные хризантемы, розы,
И одеяло — как венок...
Текут по стенам кровь и слезы
И накренился потолок...
Потооооооп!!!
Страшнее нет угрозы,
Но явны признаки беды —
Смертелен уровень воды,
когда в него впадают слезы...
(Плачет малыш)
Я разбудил тебя, малыш?
Ты кто? Скажи, чего молчишь?
Я задаю тебе вопрос!
О господи — Иисус Христос!
Ты говорить пришел со мной,
Господь?
Одна у нас с тобою
кровь и плоть.
Надеюсь, мы поймем
друг друга —
Освободи мне душу от недуга.
Готов услышать от тебя, Христа,
Что жалок тот —
в ком совесть не чиста!
Я очищал страну от грязи,
Я убивал всех без боязни.
Всех этих классовых врагов,
Кто не докручивал важнейших
винтиков-винтов,
Которые крепили государство...
И я им ядом заменил лекарство!
Прости, прости меня,
Прощенья просим!
Прости — я твой библейский
сын,
Я твой — Иосиф...
Я сделал все, что мог —
смотри по датам —
Вот города, заводы, атом...
Страна была моим
произведеньем,
Сюда вложил я свой талант
и вдохновенье!
Ты слышишь?
Где ты, Боже мой?
Я говорю с самим собой...
Я заболел —
мне надо лечь поспать...
Я сам себя за Бога начал
принимать...
P.S.
Много прожито.
Пережито.
Не пережито тоже много.
Часто перечитываю то, что написал.
Что-то нравится.
Что-то — нет.
Радуюсь тому, что вышло неплохо.
Печалюсь тому, что не удалось.
Все успеть нельзя.
Я стараюсь...
Мои слова — мои рабы.
Из них слагаются стихи.
Среди словесной чепухи
Ищу следы своей судьбы.
МЕЖДУ ТЕМ
Михаил Шемякин: Даже ядовитость эпиграмм Гафта важна — для отрезвления!