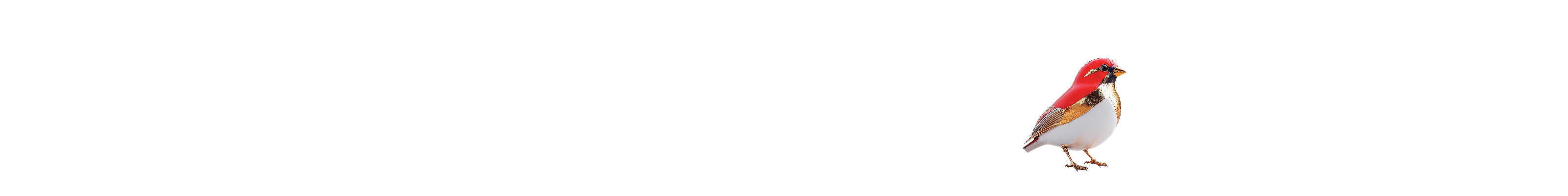КВАРТИРНЫИ ОТВЕТ
[i]Жили-были две подруги. Та, что помоложе, скажем, Вера, семейная дама, опекала ту, что постарше – одинокую старую деву, скажем, Нинель.Когда у Веры умер муж и сын совсем зарылся в свой бизнес, а сама она превратилась в старенькую бабушку с больными ногами, подруги еще больше сблизились, как бы опираясь на взаимное одиночество. Нинель между тем впала в маразм. Ну, совсем «поехала». И однажды пропала.В ее квартире Вера обнаружила какую-то дальнюю родню. «Неля уехала в Таганрог, к брату», — рапортовала родня. Никакого брата у той не было, лучшей ли подруге не знать.«То есть в Арзамас, к племяннику.Точнее, в Душанбе…» Следы Нинель обнаружились в маленькой уездной психушке, затерянной в степях Казахстана, откуда ее, как сообщил Вере по телефону врач, давно выписали.Куда? Где история болезни? Где выписной эпикриз? Или вообще хоть какой-нибудь документ? [/i]И Вера снарядилась в дорогу.Но тут на пороге встал сын и сказал: только через мой труп.Тогда Вера – тетя Вера, которую я знала со своих четырех лет, позвонила мне. «Я уверена, что она давно на кладбище, — сказала мне тетя Вера сквозь слезы. – Ты журналист, ты должна выяснить». Но тут на пороге встал мой муж и сказал: у тебя дочь, куда ты попрешься? Дадут по башке и зароют. Тут квартирные дела, ничего не докажешь.И я не поехала. Вскоре тетя Вера умерла, и некому отпустить этот мой грех. Но в квартирные дела я действительно давно не лезу.Одно время я пыталась решать эти адовы вопросы. У истоков своей биографии все ездила и ездила, помню, в какойто несчастный Подольск к несчастной тетке, затравленной протечками и озверевшей родней.И вот однажды она сама явилась ко мне в редакцию и робко поманила в коридор. Застенчиво бормоча, взяла меня за руку и что-то туда вложила.Был такой глупый анекдот.Что это: зеленое, шуршит, но не деньги? Ответ – три рубля.Гляжу: сложенное в восемь раз зеленое и, без сомнения, шуршит… И, несмотря на все дурацкие шутки, были это для тетки деньги, да и для меня тоже. «Вы с ума сошли!» – зашипела я, запихивая трешницу в теткину кошелку. Но та ловко уводила от меня кошелку, словно мулету, приговаривая: «Возьмите, возьмите, вы же тратились…» Наша коррида продолжалась минут пятнадцать, пока я все же не вернула бедняге ее жалостную взяточку и, едва не плача, заперлась в отделе.С тех пор меня еще не раз втягивали в квартирные разборки, и я обивала пороги исполкомов, и писала «хлесткие» заметки, и совершала прочие бессмысленные манипуляции. И ни один – ни один! – москвич не улучшил с моей помощью своих жилищных условий. Поняв, что экзистенциальность заложена в квартирный вопрос изначально – наряду с формированием всех знаменитых «проклятых» русских вопросов (что делать? кто виноват? с чего начать?), – я раз и навсегда положила себе за правило не вмешиваться в эту проблему.Будем рассуждать символистически, как говорил один старый еврей с Петровки, маленький дедушка Энтин, почти лилипут, триста лет занимавшийся разведением голубей и потому легко смотревший на жизнь с птичьего полета, вопреки своему сильно заниженному росту.Итак, чем – символистически – являлось так называемое «уплотнение» городского контингента на ранней стадии победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране? Оно являлось не чем иным, как моделью нового мира, где агрессия, гнездящаяся глубоко в душе всякого млекопитающего, должна найти свой естественный выход и конструктивное развитие.Если вам случалось, как мне, ехать в набитом вагоне ньюйоркской подземки, то вы не могли не отметить, как дружелюбно и толерантно (и политкорректно, разумеется) ведут себя сплюснутые друг другом американские пассажиры. Сорри, сэр! – Ноу проблем, мэм! А у нас? Допустим, вы мчитесь в понедельник, с тяжелой головой, уже с раннего утра взбешенная горой грязной посуды, на службу.Или, наоборот, в шесть вечера гоните в свой спальный район, осатаневшая от работы и предчувствий. Общая давка и злоба.И тут вам начинает казаться, что чья-то бесчестная рука шарит по вашей натруженной пояснице.Почти касаясь лицом ближайшей небритой щеки, вы (сквозь зубы): «Убери свои паскудные лапы, сволочь!» Черной пиявкой впивается ремарка в холодное ухо пассажира, скорее всего, непричастного к преступному эпизоду, и лишает его мечтательного покоя и сосредоточенности ума. «Кто сволочь?» – недоумевает пассажир. Публика, заметьте, радостно включается: — Не пихайтесь, женщина! — Да вы совсем на меня улеглись! Маньяк! — Нет, я хочу знать, кто сволочь? — Сама сволочь! — Что вы плюетесь? Скотина, оплевал мне весь подбородок! — Раз маньяк, ихнее место – в диспансере! — Нога, нога! Кость сломали, гады! Многие годы мы были открыты для публичной ярости, всегда мобилизованы для скандала: к этому вынуждала публичная жизнь. Постепенно поднимаясь с четверенек и вступая в рыночные отношения, население первым делом кинулось решать коммунальный вопрос, интуитивно чувствуя, что собака зарыта на общей кухне. Недвижимость приобрела сакральный смысл. Дом, квартира, евроремонт, планировка, риэлтор, участок, вагонка, сейфовая дверь, стеклопакеты, БТИ – точно «Отче наш» в духовной жизни страны. Точнее, в жизни тех, у кого в этой новой жизни появились зеленые, и шуршат.Кто смог – нашуршал себе 50 квадратных метров в Митино.Кто смог – четыре этажа на Рублевке.Но – посмотрим правде в глаза. Большинство российского электората по-прежнему шуршит только письмами – в управу, префектуру, мэрию, а самые социально и политически отсталые слои – в газету.Простой, небогатый человек, пенсионер или служащий-бюджетник, буквально затоптан фестивалем финансовой мощи ряда граждан. Агрессия, гнездящаяся в душе всякого млекопитающего, с приходом рынка получила совершенно новые выходы и небывалое развитие.Поскольку рынок, помимо всего прочего, открыл совершенно беспримерные возможности взятки.О том, как сносились кварталы исторических памятников и на их месте строились офисы и особняки новых русских – в центре, практически под хвостом коня Юрия Долгорукого, не писал только ленивый. И история сумасшедшей бабушки Нинели – лишь одна из целого как бы собрания сочинений Хармса, где исчезают одна за другой старушки из арбатских переулков… Кто не видел их бывших клоповничков во всем великолепии евроремонта! И никто никогда не находил концов. Чья подпись на ордере? Откуда взялась та или эта печать на плане реконструкции? Что делать? Кто виноват? С чего начать? С кого спросить? Я давно не лезу в квартирные дела. Вот и на днях мне позвонила моя бывшая соседка. «Разберись, — умоляла Оля. – Уж мы писали-писали!» Два года шла борьба за участок земли во дворе, где я выросла. Точилась на него какаято западная (а может, и восточная) фирма. И доточилась — отгрохала палаты вровень с нашим семиэтажным домом. В рекордные сроки. Дни и ночи напролет лупили по сваям, словно вгоняли гвозди в крышку гроба бедных моих стариков.И возвели: стеной – прямо в супротивные окна. Теперь у моих бывших соседей всегда ночь. А новый русский, что откупил этаж над Олей (не мою ли, кстати, квартиру?) – построил себе бассейн и джакузи.И у Оли не только вечная ночь, но и вечная осень с дождичком и ядовитой плесенью по стенам. Кто разрешил? Некто. Почему?! По кочану.Новый русский ответ на исконный квартирный вопрос проще пареной репы и того же кочана.Российский чиновник брал всегда. Но раньше столько не давали. Не шуршало столько в обиходе. А теперь конверты такие, что отказаться, право, невозможно. Ну как не взять? На то и взятка. И прелесть ее в том, что ничего не докажешь. Вроде и было – а кто видел? С кого начать? Что делать? Кто виноват? Щедрин, Гоголь, Карамзин, Радищев… Зажги лампочку поярче, Оля, и читай. Ты всегда любила почитать. Жива, и на том спасибо.А на газету я тебя подпишу: ведь ты пенсионерка, и денег на подписку тебе не хватает.