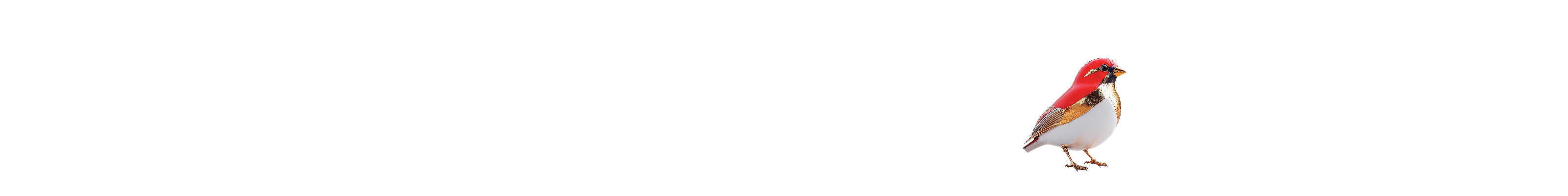ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК: РАЗГОВОР БЕЗ КУПЮР
[i]Роскошная квартира в тихом переулке. Триумф дизайнерской мысли.Живопись и графика старых и новых мастеров.Подлинники. Русская борзая с лицом еврейского профессора спесиво вздергивает брови, лежа на диване в огромной гостиной. Сухие цветы.Свежие овощи. Много вина.Дом наших друзей.Он прекрасен.[/i]Входит дочь, Маша Цигаль, не та Маша Цигаль, типа кутюрье, дочь скульптора Алика, а дочь графика Сергея (их, Цигалей, много, ветвистый клан по Москве). Итак, Маша-маленькая, девчонка ростом под притолоку, с размером ноги 42, поступившая сразу в два театральных вуза. Скрывает, как позорную семейную тайну, что мама — Любовь Полищук. В анкете абитуриента пишет: «Отец — Сергей Цигаль, художник. Мать — артистка». Чтобы относились по-честному, без этих вот. Непрерывно ворчит.[b]— А вот расскажи-ка, Люба, кстати, как ты-то в институт поступала? [/b]— Да я с 67 года была уже артистка. В Омске меня развернули из студии эстрадного искусства имени Маслюкова, отправили доучиваться в 11-й класс. Ну, короче, с большими препятствиями я туда поступала, у меня пропал голос, из вокалистки я стала артисткой разговорного жанра. И работала в программе «Омичи на эстраде». В Омске.[b]Сергей: [/b]Но с этой программой она приехала в Москву. И ее взяли в Московский Мюзик-холл.[b]Любовь: [/b]Чего ты перескакиваешь? Я еще семь лет работала в этих «Омичах» там, дома. Замуж вышла, родила. А уж потом был Мюзик-холл, где я оттрубила еще восемь лет. Ну а потом. Потом он умер, мой муж. И я осталась с маленьким Лешкой. А гастроли 10–11 месяцев в году. Ну и пришлось уйти. А потом началась настоящая чернуха в Москонцерте.Там меня вообще истребляли, как кроликов в Австралии или где там.С.: Да чего тебя истребляли? Ты там прима была! Л.: Как только я приготовила программу по Жванецкому, меня тут же задушили. Мне очень хотелось сделать моноспектакль. И именно по Жванецкому. А Михал Михалыч мне сказал: зачем ты скрываешь свою красоту? Я ведь пишу для мужчин. Но написал для меня монолог проводницы «А рыцаря жду», я его читала потом много лет на эстраде. Собственно с ним я и победила на Всероссийском конкурсе артистов эстрады. Винокур с Леней Филатовым получили тогда вторую премию пополам. Но меня не выпустили даже в телевизор. Потому что это был Жванецкий.С тех пор я мечтаю о моноспектакле. Чтобы рядом не было никаких идиотов. Вообще я говорить об этом не хочу, это страшная история. Тебе я потом расскажу — и ты будешь первая, потому что я никому это не рассказывала, больно вспоминать.[b]— Ладно, давайте о веселом. Как вы познакомились? [/b]С.: Я увидел Любу сначала в телевизоре. В «Эзопе», потом в «12 стульях». Потом в Театре миниатюр у Левитина — в «Хармсе».[b]— Это был первый твой театр? [/b]Л.: Да, после Мюзик-холла. Я сидела без работы, когда меня подобрал Левитин. А инициатором был Витя Ильченко, царство ему небесное. Если бы не это предложение, я вообще не знаю, кем и где бы я сейчас была.С.: Ну, я начал ее обкладывать, как волка. Пол-Москвы включилось в это знакомство.Л.: Он же, понимаешь, интеллигент! Он должен быть представ-лен! А грязь такая, между прочим, под ногтями была.С.: Это рабочая грязь. Я тогда был ювелиром, да и краска въедается намертво.Л.: В общем, рожа круглая, щеки красные, на голове какая-то чащоба — вот этой всей красоты с косичкой тогда еще не было.С.: Мне сказали, что она любит цыган. У нее тогда был какой-то цыган.Л.: И является это чучело.Брючки короткие, ботинки на высоком каблуке, и ходит как-то боком, как петух, и на сторону заваливается.С.: Да, ботиночки я одолжил у одного дружка, Любка же длинная, особенно на сцене, я боялся, что буду ниже ростом.[b]— Не понравился тебе? [/b]Л.: Да разгильдяй какой-то. Я сама такая, думаю, не сойдемся.Но когда он прокатил меня на льду. На своем «жигуленке» грязном, все в шерсти от собак, грязное, ногти грязные, но пахло вкусно — усы нашкипидарены чем-то. И вот он задницей своей этой колымаги — фшшшш, по льду — ну, думаю, бедовый, вот чего мне не хватает, я-то трусиха. Понравился.С.: Это после «Чехонте» в «Эрмитаже». Поехали в ресторан ВТО, там Люба, чтоб получше выглядеть, махнула для начала три бутылочки пивка.Л.: Маленькие бутылочки, помнишь, «Двойное золотое»? С.: Ну! Сказочное пиво было. А потом я повез ее к моему другу художнику Семенову. В мастерскую. У нас есть два Семеновых — Серега, он называется «мужицкий», как Брейгель. А есть Леша. «Бархатный». Как пиво.Вот мы к Леше забурились, там еще Маркевич Андрюшка, сидели, так хорошо выпивали.Л.: И мне так все понравилось! Все! Что все 49-го года, что все «Тельцы», как я. Такие мужики прекрасные.[b]— Эта первая такая компания у тебя была — московская, богемная, художественная? [/b]Л.: Я ведь за эти 13 лет мало бывала в Москве, все больше по гастролям. И мне никогда не было так тепло и уютно. Вот все было мое, понимаешь? Может я созрела, не знаю. Все так совпало. 13 — вообще особое число в моей жизни, которое я люблю и ненавижу: Но мне было очень хорошо, очень.[b]— Ты, Сережа, был старый холостяк? [/b]С.: Ну почему, я был сравнительно молодой холостяк.Л.: Он и сейчас холостяк.С.: Я был в том замечательном состоянии, которое бывает между первым браком и вторым.[b]— Хороший армянский мальчик? [/b]С.: И отчасти еврейский.[b]— И ты уже решил обязательно жениться — или так? [/b]Л.: Да ему просто артистки нравились. А уж потом, когда я оказалась беременна, в кои-то веки. Месяца через два… С.: Да ладно, через два! Л.: Вот именно, я сама удивилась, вроде так мало знакомы. Короче, я сказала: хватит, уже один растет без отца. Либо ты делаешь мне предложение по всей форме. Либо я делаю тебе аборт. Что для меня было убийственно. Я чувствовала, что во мне девочка. Я ужасно хотела девочку. И этот идиот... Я ненавижу гвоздики. И он приходит ко мне с жалким веничком этих вот гвоздик.Мама твоя мне недавно сказала, что тебе дали деньги на розы, подлюка. Вот гаденыш, Мирель говорит, мы ж ему с Ленкой дали на розы! С.: Да у меня уж были тогда свои деньги! Л.: Да-а, как же, были у него деньги. Пришел ко мне с этими вялыми гвоздиками и объявил: «Предлагаю тебе руку и сердце».С.: Ленка, сестра, мне сказала: ты обязан.Л.: Ты добавь, что я им понравилась, в отличие от тебя.[b]— А ты привел, как положено, в дом, знакомить.[/b]Л.: Значит, Алла, он ничего не делает, как положено. Это я, как положено, пришла сама. Он жил на Арбате, а я пошла туда в «Оптику» заказывать Алешке очки.Надо было ждать полтора часа. Я ему позвонила, он говорит, давай, заходи, мама наделала котлет. А я котлеты терпеть не могу.Но пошла. Захожу, вся из себя индифферентная. И вдруг вижу: квартира до потолка увешана картинами, как Третьяковка.Книги бесконечные, портрет Мариэтты Шагинян — а я не знала, что он ее внук, вообще как-то мало про него знала и вообще не придавала значения. Честно скажу — заробела. Я ж в бараке родилась. Ведут меня в гостиную, дают котлеты. Я с испугу съела одну — и мне так понравилось! Котлеты назывались «крэм». И с тех пор я котлеты делаю лучше, чем ты!!! [b]— Я слышала, что дом Мариэтты Шагинян в Коктебеле теперь называют дачей Полищук? [/b]С.: Этот дом, между прочим, был построен на средства от капустника, который устроили все самые блестящие поэты, художники, писатели того времени, что на даче у Волошина жили. Кого там только не было. И стоял этот дом заброшенный и практически ничей. И бабушка решила: Мирель заканчивает «Суриковку», надо бы ей сделать подарок. После войны пара туфель стоила пять тысяч. И дом этот стоил пять тысяч. Я жил в этом доме с 51-го года, а до того — в доме Волошина, среди всей этой братии Серебряного века. И вот, представляешь, в прошлом году я у одной старушки на Сивцевом Вражке читал письма из Коктебеля, где описан я сам, годовалый мальчик… Л.: Написано было так: «Смерч и маленькая обезьянка, шатающаяся только по потолку».С.: Люба, ну что ты врешь, таких слов там не было, по какому потолку! Она выдумывает.Л.: Да нет, я не выдумываю, к сожалению. А теперь это дача Полищук! С.: Когда Любка была беременная, она лежала на террасе, а отец в пестрых трусах лазил по грядкам, поливал там. И кто-то постучал в калитку: «Это дача Полищук?» Отец говорит: «Да».— А вы кто? «А я ее садовник». — А можно на нее посмотреть? Отец говорит: «Пожалуйста». Открывает.Л.: А я лежу, 39 в тени, морда вся в каких-то листьях, с валидолом, с корвалолом. Не узнали. А Виктор Ефимович с тех пор — садовник. Виктор Ефимович, который пишет замечательные книжки, художник потрясающий, а к старости еще и читает гениально, и смотрит. И вот однажды я пригласила его на один спектакль, плохой. Прихожу домой и на автоответчике слышу: «Любаня, я прочел у Раневской потрясающую вещь: сняться в плохом кино — все равно, что плюнуть в вечность». Намек поняла.[b]— Ты часто в вечность-то плевала? [/b]Л.: Да не однажды. Но ни о чем не жалею. Если бы мне предложили жизнь начать сначала, я бы совершала те же ошибки, только еще более грубо, еще более нелепо, мне кажется. Сережа однажды спросил: если бы все умерли — родственники, друзья, знакомые, ну все, ты бы как себя чувствовала? Помнишь это? С.: Нет.Л.: Ты спросил: ты бы хотела остаться жить после этого? И я не задумываясь ответила: да. Что это такое — я не понимаю. Может быть, я так люблю одиночество? [b]— Любишь одиночество или так любишь жизнь? [/b]Л.: Ну вот как это можно соединить? Как можно остаться одной — и продолжать любить жить? [b]— А ты действительно так любишь одиночество? [/b]Л.: Ну, мы наверное сами аккумулируем себя. В моей профессии за исключением друзей и аплодисментов — ничего не греет.[b]— А что еще-то должно быть? [/b]Л.: Ну как, влюбленность.[b]— А муж? [/b]Л.: Нет, я люблю Сережку, но это привычно. В этом нет энергии новизны. Я стараюсь хоть немножко влюбиться в партнера, даже если я его ненавижу. Это бесконечный онанизм, наша профессия. И поэтому чем ты старше, тем больше ты черпаешь в себе самой. У меня это — сон и одиночество. Я заряжаюсь только так. А где его взять-то, одиночество? Вот Сережа целыми днями сидит в мастерской. Один. И поэтому ему наоборот надо общаться, он не пропускает тусовок, приходит домой и говорит не умолкая. А у меня замыкает аппарат. Если я улыбнусь — уже не могу свести челюсти. И вот такое несочетание, я думаю, и держит нас. А то бы мы давно разбежались.С.: Понимаешь, она столько работает и так устает, что дома она только лежит. Я практически вижу ее исключительно в горизонтальном положении. Вот приезжаем в Коктебель — это десять стаканов семечек и какой-нибудь толстый Лесков, Чехов, Достоевский. Ложится и конец. И мне это очень нравится. Я жду этого целый год.[b]— И тебе тоже кажется, что вас удерживает только вот такая разнофазовость жизни? [/b]С.: Меня на земле удерживает только игра в теннис.[b]— Ну ладно, я же серьезно.[/b]С.: Это очень серьезно. Вот мне позвонят: Серега, есть корт. Я все брошу и поеду играть.[b]— Теннис, вкусная жратва — как ты готовишь, мы знаем – пьянки-гулянки, хорошие сигары.[/b]С.: О, как я разбираюсь в сигарах, ты не знаешь! [b]— Так я понимаю, что ваш общий знаменатель — жизнелюбие. Хотя и невероятно по-разному выраженное, совершенно разной энергетической насыщенности... Кто же из вас все-таки настоящий оптимист? [/b]Л.: Алла, вот смотри. Приходим мы в компанию. Я вот такого цвета, как эти занавески (оливковые — А. Б.). «Любаня, как дела? — Все прекрасно!» Серо-зеленая, как сырой рак. У этого — рожа красная, румяная, усы торчком.[b]— Рак вареный? [/b]Л.: Вот именно. И все у него болит. Он умирает. А у меня все прекрасно. То есть по жизни он якобы оптимист. На самом деле — зануда страшная! С.: Врет. Все врет. На самом деле оптимист, конечно, я. Вообще человек, который утверждает, что теннис — главная опора его жизни, наверное, оптимист.С.: Конечно.Л.: Все врет. На самом деле — разумный, мудрый. Это не его заслуга. Это кровь: евреев и армян. Я — яростная, неуемная, истеричная натура. То и дело рву на себе волосы. Полное отчаяние. Тошнит от безысходности, от бездарности, от усталости. Он садится рядом. Любаня, все хорошо. Все нормально.Спектакль — говно. Но ты! А мне только этого и надо. В общем, счастливое совпадение.Ровненько не укладываемся. Но через горбы, через кривые суставы — вот так. (Выворачивает ладони, дико сцепив пальцы.) Ну и язык, качество юмора — важно же, над чем смеяться вместе.[b]Маша: [/b]Когда вы закончите-то? С.: Не знаю, отстань.Л.: Чего тебе надо, чего? Что ты хочешь уже?! [b]Маша: [/b]Я хочу в Коктебель.[b]— Люба, до Сережи тебе в Москве тяжело жилось? [/b]Л.: Очень. Я недавно Машке рассказывала, когда она чего-то морду очередной раз кривила: ты знаешь, что значит спать на полу, на одном матрасе с маленьким сыном, в трехкомнатной квартире, заполненной народным ансамблем песни и пляски? Так распорядился Мюзик-холл. А я была взрослая женщина и звезда.И у меня не было мебели, кроме матраса и ящиков из-под овощей. А Лешка был со мной с полутора лет. Потом я его оставила на полгода. С.: Ты кукушка! Л.: Не бей по голове, я буду гадить, где попало.С.: Прошу эти слова занести в протокол.[b]— Люба, а что значит «жила в бараке»? Это в буквальном смысле? [/b]С.: Ну знаешь песню: опа-опа, жареные раки, приходите девки к нам, мы живем в бараке! Л.: Ну буквально. Среди зэков и блатных.[b]— А что за семья? [/b]Л.: Мой папа, царство ему небесное, был сперва пожарным, потом железнодорожником, потрясающе красивая форма у него была: такая, знаешь, с белым подворотничком. Потом пошел в маляры, там больше платили. А мама, поскольку трое детей, день и ночь шила. На нас стучали, машинку изымали. Папа очень рано потерял родителей, с восьми лет нанимался работником в чужие семьи. Ну, батрачил, собственно. Максим Горький, «В людях».[b]— У вас были совершенно разные «детские». Это влияет на вашу жизнь? [/b]Л.: Меня раздражает, когда Сережа забывает иногда, на каком он свете, и начинает: «А помнишь, на Арбате было потрясающее суфле». Нас поднимали в четыре утра, меня в правую руку, Гальку, сестру — в левую, братика на грудь, и мы неслись по магазинам. Потому что в одном давали масло, в другом — сахар, а в третьем — муку. Мама занимала сразу несколько очередей и предъявляла всех нас, чтобы наглядно: мы не одна, а четверо душ, документов было недостаточно. И так до девяти утра мы перебегали из магазина в магазин. Бедная мама! Это был город Омск, а не Москва. А у Сережи были пайки.[b]— Э, да тут, похоже, классовая ненависть.[/b]Л.: Нет, меня это даже не особенно злит. Мне это не-по-нятно.С.: Ладно, нас с нашими знаменитыми пайками (кстати, довольно мифическими) тоже кой-чему жизнь учила. Как папа мой рисовал хлебные карточки в Самарканде, в эвакуации — что ты, равных не было! Маша: Какие карточки? С.: Хлебные.[b]Маша: [/b]А что это? С.: Во поколение! А ты, Любань, говоришь «пайки».Л.: Моя мама чуть не умерла, когда в общественном сортире возле рынка карточки выпали у нее из кармана — прямо туда, в яму. А это ж война. Все карточки — все, голодная смерть. И они — что ты думаешь? Подружка держала ее за ноги, и она, по локоть в говне, их там ловила. И выудила! [b]Маша: [/b]О господи! С.: Моя мама тоже, между прочим, здорово там голодала, в этом Самарканде. Папа недолго карточки-то рисовал. Их сначала эвакуировали — «Суриковку», а потом он ушел добровольцем в танковый корпус.[b]— Сережа, а ты ведь еще геофак кончал? [/b]С.: Да, биогеографию. У меня два образования. Я дико умный.[b]— И что тебе дала твоя биогеография? [/b]Л.: Потерял десять лет жизни.С.: На самом деле нет. Все на пользу. Насекомых вот рисую.Л.: Ненавижу насекомых. Ненавижу все, что связано с землей.Кладбища, подземные переходы: Самым страшным страхом моей жизни были покойники. Мои сны были переполнены покойниками, пока не умер у меня на руках папа. Но попов ненавижу до сих пор.С.: Ну брось, Люба, есть отличные ребята. Хотя меньше, чем хотелось бы. Меня крестил замечательный дядька, бывший музыкант, мы так хорошо выпили.Л.: А Сереже лишь бы тусовка.Вот я с ужасом вспоминаю, как меня крестили: в какой-то кастрюле, куда до этого наблевал младенец. А я уж взрослая была. Лет пять. Все понимала. И с тех пор ненавижу этих дармоедов.С.: Злая ты, Люба.Л.: А тебе все в кайф.С.: Это точно. Мне даже армия, которую все проклинают, что-то дала.Л.: Он там варил варенье и посылал маме в кефирных бутылках. Циник.С.: Почему циник? Просто маму люблю.Л.: Ой, ты помнишь, что бабушка тебе сказала, когда тебя призывали? С.: О, Мариэтта сказала две великие вещи. Меня сначала должны были отправить в Туркмению, охранять зэков в пустыне.Кошмарный призыв. Бабушка сказала: что, Ашхабад? Только не ешь немытых фруктов. А вторая гениальная фраза была: имей в виду, тебя будут бить дети рабочих и крестьян. Что оказалось совсем не так, я как раз одному пролетарию надавал по морде довольно сильно. Служил я, правда, в результате под Питером, в дивизионе ПВО, собирал малину и извлек довольно много разных впечатлений. На статейку в журнале «Фас» накопал.Л.: Говорю же, циник. В феске турецкие орешки рекламирует.Армянин! [b]— У тебя много заказов? [/b]Л.: Заказы ему поступают только от меня. Прибить типа полку. Я жду лет пять, а потом вот так, сикось-накось (показывает) шурую сама.С.: Не показывай на себе. Графику трудно продать. Да и негде. А для денег я делаю интерьеры для богатых, росписи всякие.Л.: Сережка чудный художник, очень стильный. И это беда. Я думала, что актерская профессия — самая унизительная и самая зависимая. Но то, в каком унижении живут они, я не подозревала. Эти выставки, где они сидят целыми днями, и никто не подходит. И некоторые даже не смотрят. А ты зайди в мастерскую — там же не пройти. Сплошь работы. И какие работы! С.: Ну Люба, это нормально. Никто с искусства не живет. И ты работаешь на потребу, нет? Ты знаешь, мне кажется, она в этой квартире реализовалась больше, чем в театре. Как Раневская.[b]— Мечта о хорошей, о шикарной квартире — это привет из барачного детства? [/b]Л.: Мне после моего барака не на что было жить. Только ДСП и пластмасса. У меня была такая тяга к «настоящей жизни», что я выучила язык глухонемых и подружилась с глухонемой девочкой, чтобы ходить к ней через овраг. У них был телевизор! Я до сих пор знаю эту грамоту. Ко мне на Арбате подошли однажды глухонемые и попросили автограф. И я им на их языке сказала, показала: «Спасибо». Теперь они все мои. А вить гнездо — люблю, конечно. Это тоже театр. Зрителей только мало.С.: Зато роли какие!