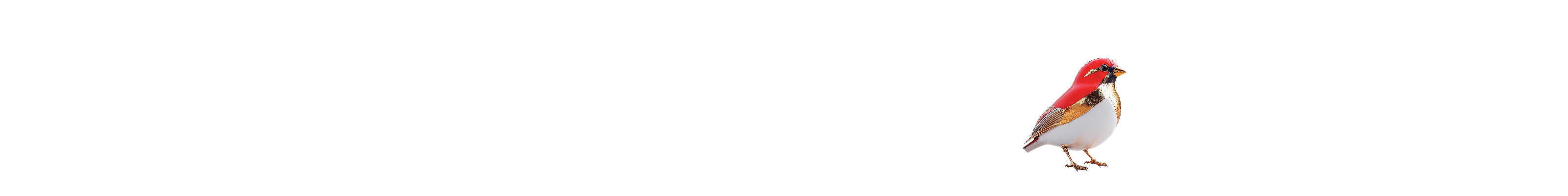Виктор Чижиков: От меня больше пользы, чем от десяти сел
Художнику, создавшему львенка Вилли — символ чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии, — было выплачено 6 млн. 700 тыс. фунтов стерлингов. Художнику, создавшему Мишку — символ Олимпиады-80, — было выплачено... Хотя он сам расскажет о перипетиях борьбы за свои авторские права. А мне остается напомнить, что человек с веселой фамилией Чижиков — живой классик детской иллюстрации. Я, например, до сих пор вижу его глазами многие персонажи Виктора Драгунского, и та же история, только с героями Эдуарда Успенского, повторилась у моих детей. Сколько ни пытались нарисовать Дядю Федора по-своему, а получалось «как у Чижикова».
— За Мишку мне выписали тысячу триста рублей, получил тысячу сто восемьдесят. И года через три перевели еще рублей восемьсот.
— Это был гонорар за победу в конкурсе?
— Нет, конкурс ничего не дал. Тогда обратились к профессионалам, но так, что многие ни о чем не знали. Мой друг встретил на улице руководителя Союза художников, и тот сказал: «Вот вам бы, детским иллюстраторам, и заняться олимпийским Мишкой». Собрались у меня в мастерской четверо художников и рисовали медведей, каждый своих. Понакрутили их очень много — это были карандашные рисунки, поиски образа. Скажем, у меня, помимо известного теперь Мишки, были такие, которые вкладывались друг в друга, как матрешки. Отнесли все в Олимпийский комитет, и там просто ткнули пальцем: «Это кто рисовал?» — «Чижиков». — «Ну пускай он сделает это в цвете». Я сделал и в апреле 1977 года сдал оригинал. Позвонили мне в сентябре: «Поздравляем, ваш медведь прошел ЦК партии. Мы завтра даем его в газетах». Говорю: а разве не надо перед тем, как давать в газетах, оформить это юридически? Вроде бы согласились, а потом началось: «Автор не вы, а советский народ, который решил, что символом Олимпиады будет медведь». Чушь, нелепость, бред. Перечислять все мелкие зуботычины просто ни к чему. Мишку запатентовали на Олимпийский комитет и лишили меня авторских прав.
— К нам в газету приходят 16-летние абитуриенты зарабатывать публикации для поступления на журфак, и уже понятно: этот будет писать, а этот всю жизнь прокантуется в службе общественных связей. А как в вашем деле? Можно сознательно выработать собственную манеру или она дается от природы?
— Свой стиль возникает постепенно. Не то, что ты его ищешь, а просто живешь и рисуешь, и со временем появляются твои деревья, твое солнце, твои типажи. Но это не сразу, потому что в молодости на тебя влияют всякие силы. Скажем, у меня были работы «под Малаховского», первого иллюстратора «Золотого ключика». Кстати, он был архитектором и свои проекты населял смешными персонажами, они у него иногда падали с мостов и тому подобное. Наверное, архитекторов это раздражало, и ему сказали: иди в журнал картинки рисовать. Он пошел в журналы «Чиж», «Бегемот» и стал замечательным иллюстратором... Позже я подражал Борису Ефимову. Мне нравилась его упругая линия с нажимом, эти огромные подошвы ботинок... Когда классе в девятом знакомый наш архитектор Ершов привел меня в мастерскую Кукрыниксов, я притащил с собой чемодан политических карикатур, где бичевал Ли Сын Мана и не оставлял живого места на Франко.
— Чем меньше возраст читателя, тем больше успех книжки зависит от иллюстраций...
— Конечно! Художник-иллюстратор может очень много, особенно в детской книге. Какую-то незначительную, с точки зрения автора, сцену можно раздуть до разворота, и наоборот, кульминационный момент вынести на заставочку. В общем, работа художника детской книги сродни режиссерской. Я набираю состав «актеров» и проигрываю каждого: его манера ходить, манера плеваться — это все должно быть в иллюстрации. А еще я работаю и как художник-сценограф, и как художник-постановщик. Это фантастически интересное дело, а главное, никто в мою работу не лезет! Я благодарю Бога, что он дал мне эту специальность.
— А в штате вы когда-нибудь работали?
— Только раз, когда в «Веселых картинках» меня попросили побыть художественным редактором, пока там не подберут нового человека. Я проработал ровно год и сам помог найти себе замену. А все остальное время был вольным художником... Люди, всю жизнь проработавшие в штате, говорили мне, какая это дикая мука — все время приходить на работу и видеть напротив себя человека, который тебя ненавидит, и ты ему отвечаешь взаимностью, но приходится делать вид, что ничего не происходит. А я сам по себе. Живу на шестом этаже, мастерская на четырнадцатом, езжу на работу в лифте. Это на Малой Грузинской, где выставки и где жил Высоцкий.
— Детский вопрос: а зачем иллюстратору мастерская? Вы же не пишете батальные полотна.
— Я могу и на коленочке работать, но приходится делать и плакаты. А потом, где хранить оригиналы? Они ведь часто в полтора раза больше, чем иллюстрации в книге. Это огромное количество папок, где собраны и рисунки с натуры, и оригиналы книг, и пятое-десятое. А мастерская небольшая, восемнадцать метров.
— Сколько же книг вы проиллюстрировали?
— Около ста. Может, и больше.
— А максимальный тираж одной книги?
— В советское время издательство, раз тебе заплатив, могло два года шлепать книгу любыми тиражами и ничего не доплачивать. В эти два года книги печатались истерически. Тираж сказки «Вершки и корешки» с моими иллюстрациями был миллион четыреста тысяч. Наша с Успенским книга «Вера и Анфиса» выходила тиражом в миллион...
— Неужели художник так накладен для издательства, что надо было идти на такие ухищрения?
— Наоборот, художники давали дикую прибыль и издательству, и государству. Летом я живу под Переславлем-Залесским в селе Троицкое, которое входило в колхоз «Трудовик». Так от меня было больше пользы, чем от десяти сел, объединенных в этот «Трудовик», который всю жизнь на дотации государства.
— То, что вы живете так далеко от Москвы, имеет творческую причину?
— Там очень хорошо рисовать, никто не отвлекает. В этой же деревне раньше жил Успенский, а Николай Устинов, замечательный детский иллюстратор, живет от меня наискосок.
— А соседи знают, кто живет рядом с ними?
— Да, мы же там 25 лет. Отношения очень хорошие, если ты нормальный человек и не выпендриваешься, а просто живешь. Я там нарочно не завожу телевизор, чтобы не отвлекаться, и хожу смотреть хоккей к соседям. Они матерятся при мне так же, как и без меня. Когда становишься частью деревни, это естественно.
— Итак, встаете вы утречком в деревне...
— ...И, если нет жены, разогреваю кастрюлю, в которой сварил какую-то бурду на неделю. Чтобы получилось вкусно, надо бросать туда все, что любишь, а огонь доделает. Кастрюля бухтит, и я даже не знаю, что это будет, первое или второе. Если налить воды, то в основном получается первое.
— А кроме воды?
— Мясо кладу обязательно, иначе и затевать эту варку не имеет смысла, а потом с огорода капусту, картошку, морковку, петрушки побольше, сельдерея — связал пучком и бросил туда.
— Зачем же связывать?
— Чтобы потом выбросить... Завтракать, обедать и ужинать я могу одной этой кастрюлей. Ну еще молоко для разнообразия жизни, а так главный удар делаю на работу.
— Меня всегда интересовало, как в детских иллюстрациях получается заливка, совершенно ровный фон.
— Кистью и акварелью. Ленинградская акварель, по-моему, — самые лучшие краски в мире... Я дальтоник, между прочим.
— Красное и зеленое не различаете?
— Да, могу путать розовое с зеленым, но все зависит от оттенков. Причем в молодости было еще хуже, а сейчас я прекрасно вижу оранжевое, желтое, синее. Поэтому из коробки у меня исчезают только те краски, которые я вижу, а часть так и остается не тронутой.
— Как же вас приняли в Полиграфический институт с таким зрением?
— Тогда было столько черно-белой продукции, что это не имело значения. В Полиграфическом всегда ценилось умение обращаться с черным и с белым — гравюра, офорт. Учиться я пришел, имея за плечами работу в моссоветовской многотиражке, — я там публиковал карикатуры с шестнадцати лет. Кстати, и в «Вечерке» опубликовал что-то про борьбу за мир... А вообще я рисовал, сколько себя помню.