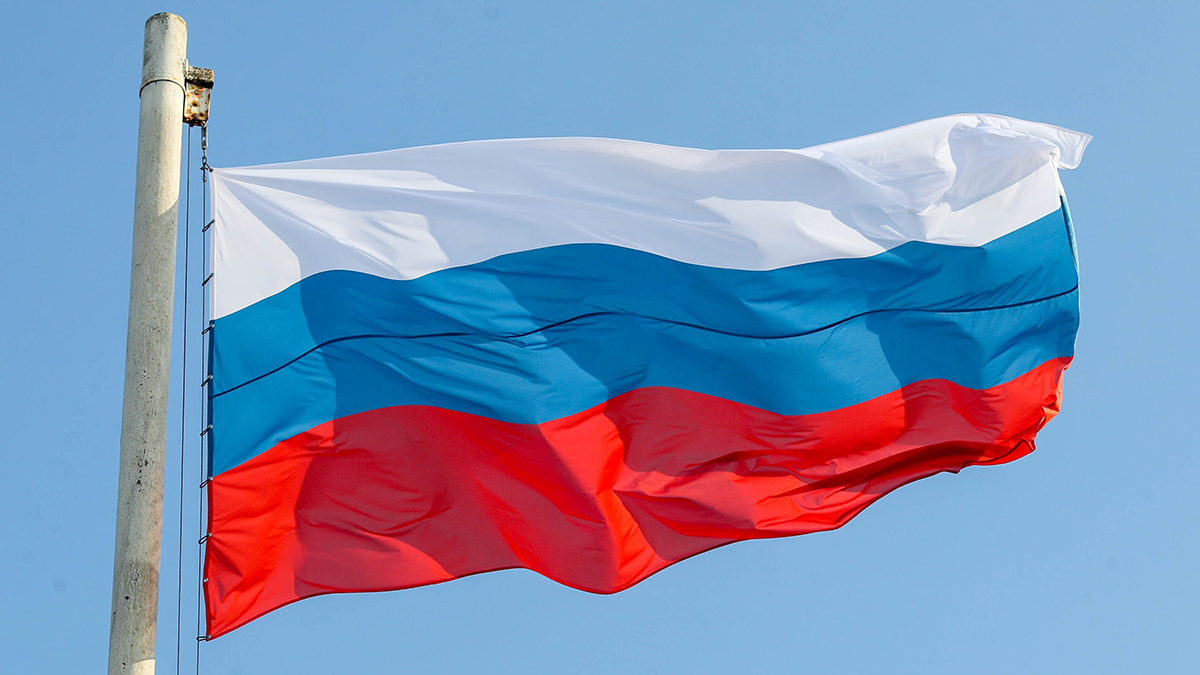Умер Вячеслав Красовский. Блестящий преподаватель, «гроза» студентов журфака
Не стало Вячеслава Красовского, Вячеслава Евгеньевича, «грозы» факультета журналистики, уж нашего потока — точно. Он, выпускник филфака, защитил кандидатскую в 1984 году, и с февраля 1986 года работал на журфаке МГУ до последних своих дней. Кафедра истории русской литературы и журналистики была ему родной, а он был на ней одной из центральных фигур.
Ну а наш поток поступил на журфак в 1987-м. Красовский, тогда совсем молодой, с прической, которая мне всегда почему-то навевала мысли об Алексее Толстом, внушал нам священный ужас: старшие товарищи, обладавшие определенным опытом общения с ним, делились историями своих провалов, и перед сессией мы не боялись ничего, кроме прихода к Вячеславу Евгеньевичу «на растерзание». Впрочем, было известно, что ничего особенно ни на зачетах, ни на экзаменах не происходило. Доставалось только тем, кто имел дерзость не любить русскую литературу, еще хуже того — не читать ее вдумчиво и глубоко, и совсем уж дурно — путать «имена-пароли-явки», то есть даты и все прочее. Красовский искренне не понимал, отчего в голову вчерашних школяров не укладываются великие знания, которыми, надо сказать, он накачивал студентов легко, четко, порой весело, систематично и методично. Он хотел одного: чтобы мы знали. И все. А у нас гулял в голове ветер. И расплата за этот «сквозняк в мозгах» была неминуема.
Он был удивительно афористичен. Так, помню, он рассуждал о поэтах, что писали стихи силлабическим стихосложением. Он объяснял, что стихи эти трудны для восприятия, поскольку сам стиль не создан для русского языка, но делал реверанс: «Да, они писали не всегда хорошие стихи, но были первыми! А первым всегда трудно...». Это «первым всегда трудно» почему-то меня пронзило — при всей простоте оборота. А он выдавал подобные «перлы», не замечая этого, всегда изъясняясь языком высочайшей культуры и при этом легкости.
Безумно жаль, что вся глубина его знаний становится очевидна лишь сейчас, когда мы стали старше его «тогдашнего». Он не был беспощаден, вовсе нет. Но в его мире, мире литературы, где он ориентировался как Бог, пребывая одновременно в нескольких веках точно у себя дома, было немыслимо назвать НовикОва НОвиковым. Услышав подобное, он обижался как ребенок, поджимал губы, терял всякий интерес к тому, кто отвечал, и не потому, что видел в ошибке неуважение к себе («так произносите фамилию, значит, точно не посещали мои лекции»), а потому, что не терпел неуважения к тем литературным персонам, что населяли его литературную вселенную.
Не помню уже, что именно мне досталось на экзамене, но вопросы я знала и ответила сносно. Он задал еще вопрос; я понимала: ему кажется, что я просто везунчик, вот и хотел проверить. Ответила, он кивнул. Но помню удивление в его глазах и распрямившиеся вдруг плечи.
— А как у вас с Тредиаковским? — спросил он вдруг, задумчиво закусив ручку.
Я понимала, что он хотел бы услышать, наверное, что-то про любовь, но ответить решила честно:
— Примерно так, как у Тредиаковского с Ломоносовым, — ответила я со вздохом.
Он округлил глаза:
— Отсюда конкретнее, пожалуйста.
— Ну, они же ненавидели друг друга, Ломоносов и Тредиаковский. Но оба любили литературу. Ну вот... И я вроде литературу люблю, а стихи Василия Ивановича почти ненавижу.
От ужаса аудитория вдруг съежилась и стала казаться очень маленькой, а Красовский — очень большим. Он посмотрел на меня как на убогую, вздохнул и расписался в зачетке.
— Кириллович. Тредиаковский — Василий Кириллович, не Иванович. Эх, все впечатление испортили. Как же так. На такой мелочи...
Мне казалось, что в аудиторию сейчас войдет заплаканный Тредиаковский, а с ним Сумароков, Ломоносов, Державин, Антиох Кантемир и Пушкин. И смеяться будет только Барков, остальные вытянут палец и скажут протяжно: «Фу-у-у-у!».
Он благородно простил мне «Кирилловича». На его пятерку собрались посмотреть все, а я была ей не рада, уже тогда понимая, что даже если я забуду свое имя, то имя и отчество Тредиаковского не уйдут из памяти ни при каких обстоятельствах.
Я вспоминала эту ситуацию не раз, да и сейчас улыбаюсь, но на сердце как-то стыло. Красовский был замечательным преподавателем, который своим примером учил нас любить то, чем занимаешься, беззаветно. Это понимание пришло позже, чем надо. Простите, Вячеслав Евгеньевич.
Наталия Покровская, шеф-редактор вечернего выпуска «Вечерней Москвы»:
— Двойку, единственную за все время учебы на журфаке, заработала я именно у Вячеслава Евгеньевича. За второй том «Мертвых душ». Обиделась тогда, помню, ужасно. Потому что другие преподаватели к нам, заочникам, проявляли куда больше лояльности. Ну как же, мы ведь работаем уже, почти профи, да еще учимся. А Красовский требовал по полной: пришла сдавать русскую литературу XIX века, будь добра знать все и всех. В том числе и коптителя неба Тентетникова, и генерала Бетрищева, и кто такая Улинька... Со временем стало понятно, что дело, конечно, не во вредности блестящего лектора и преподавателя. А в его безграничной любви к литературе и понимании того, что без абсолютного впитывания в себя классики, язык молодых «профи» от журналистики будет кургузым и бедным.