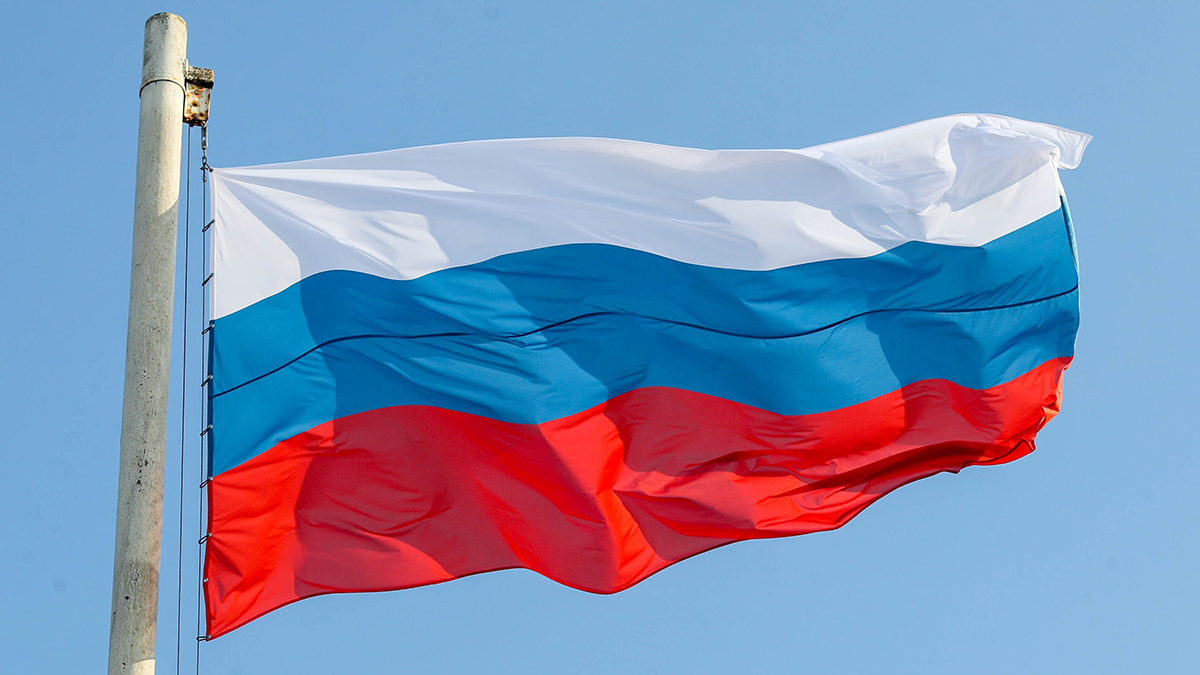Палитра Бориса Кустодиева
Сюжет:
История любвиХохот, потом тихий шелест голосов и снова — хохот. Сестры Грек — обе иссушенные и согнутые годами, сплошь в кисее чепцов и накидок, испуганно переглянулись, крестясь. Сестры-воспитанницы, Юлия и Зоя, замерли.
— Зоинька, пойдите да узнайте, что за шум, — хором попросили старушки, и бойкая Зоя скрылась в передней. Юлия, любопытствуя, отодвинула занавеску: компания молодых людей хохотала прямо возле крыльца, а вот теперь уже и Зоя с ними… Вскоре сестра вернулась, а затем представила старушкам и Юле новых знакомых: студенты петербургской Академии художеств, господа Стеллецкий, Мазин, Кустодиев. Прибыли на каникулы-с в соседнюю деревню, на этюды. Старушки вздохнули: Слава Господу Вседержителю, приличные молодые люди. Их пригласили на чай с вареньем; художники отказываться не стали. Разговор вышел премилым, но особенно старушкам-сестрам понравился астраханец Кустодиев: он хоть и с говорком, но прелесть как воспитан, мил, смешлив и обаятелен! Уходя, Кустодиев обернулся, и Юлия зарделась.

Встречала художников Зоя, а ухаживать все трое начали за Юлией. Ей больше всех нравился рыжеватый веселый Борис. Да и он, даром что мягкий, быстро оттеснил соперников. Вскоре он упросил Юлию позировать ему на терраске. Она сидела не шелохнувшись, завороженно смотрела, как он наносит на мольберт мазки. Получив через несколько дней готовый портрет, чувствительная девушка поняла больше, чем он говорил. На картине она была чуть красивее, чем в жизни. Так мог видеть ее только влюбленный человек. Да и сама она влюбилась не на шутку.
В день отъезда художников Юлия вечером плакала. Но уже через пару дней от Бориса пришло письмо: видно, он начал писать его уже в дороге. «Я вам безусловно верю во всем, что вы говорите, и буду верить…» — писал он. И она украдкой целовала листы бумаги.
В жизни Юли, по рождению — гордой полячки, по положению — безденежной сироты с малых лет, рано отданной на воспитание в чужой дом, пусть и к милым старушкам Грек, было не много счастья. Борис будто привнес в ее жизнь свет. Спустя три года переписки и встреч, 8 февраля 1903 года, они обвенчались. Старушки Грек немного не дожили до события, ушли одна за другой. Их имение Высоко за неимением наследников передали в госказну, мебель выставили на аукцион. Сестры же, Юлия и Зоя, по завещанию получили по три тысячи рублей. Юлия и Борис на эти деньги выкупили выставленную на продажу мебель.
Борис хотел, чтобы Юлию окружали любимые с детства вещи, и в их петербургскую квартиру вскоре переехали диваны, шкапчики и шкапы, бюро и поставцы. Это было трогательно... Но старая жизнь завершилась. Да и не жаль. Кустодиевы были безмерно, страстно и глубоко счастливы. Когда их старшему сыну Кириллу исполнилось три месяца, они отправились путешествовать. Это было невероятное счастье. В поездке Кустодиев бесконечно писал жену, а картина, на которой Юлия купала малыша, стала гимном любви и материнства.

■
…Вся Астрахань пришла в тот день на выставку, было не протолкнуться! Важные матроны и господа, люд попроще, разодетые мещане — все хотели посмотреть передвижников. Мать нарядила Борю в костюмчик, но он все равно умудрился перед выходом перемазать красками курточку. «Я буду художником!» — кричал он и на выставке, и всю дорогу домой. Мишка, его брат, тот понятнее — помешан на технике, да и все. А тут — художником…
Надежно ли это? Мать переживала — четырех сыновей она поднимала одна, мужа рано забрала чахотка. Но, говорят, Борька талантлив. Она сдалась. И он доказал правильность выбора. За десять лет, считая от церковно-приходской школы и до учебы в Академии и у самого Репина, Борис Кустодиев вырос невероятно. В 23 года, уже женившись, Боря помогал Репину создавать знаменитое полотно «Торжественное заседание Государственного совета», картину-гигант. Юлия, правда сказать, сердилась: полотно получалось очень «репинским», а старания Бориса и других учеников видны не были. Борис посмеивался: до Репина не дотянуться.

И потом, он рекламирует своих учеников…
И это было правдой. Заказы сыпались на Кустодиева как из рога изобилия. Портреты его кисти — яркие, сочные, с характером и психологизмом — вошли в моду. Мешало одно: иногда его спину пронзала дикая боль. «Сейчас пройдет, милый!» — гладила Юля его окаменевшие лопатки, и приступ проходил — иногда надолго, иногда — всего на пару часов. Доктора советовали разное: одни велели больше ходить, другие — отправляться на источники.
■
Накопив денег, Кустодиев нарисовал проект дома своей мечты, назвал его «Терем» и по нему отгрохал дачу под Кинешмой. Летом 1907 года у них с Юлей было уже трое детей — любимица отца, Ирочка, пухленькая булочка, Кирилл и Игорь. Он работал все больше, боли возвращались все чаще и мучили его подолгу. Юлия уехала с детьми на дачу, и тут чтото случилось. Борис сидел в Петербурге, было лето, почтальон принес очередное письмо от жены, в котором она умоляла его приехать, как-то приструнить распустившуюся прислугу, жаловалась на усталость. А он работал всю ночь! И все заработанное уходит, будто в бездонную бочку, да какого черта!!!
Рано женившись, Кустодиев, выражаясь языком современным, не нагулялся. И его повело. Мир был огромен, прекрасен, он вовсе не состоял из пеленок, детского крика и тазиков. И лицо жены, такое любимое, стало вдруг раздражать — у нее вечно скорбно сжаты губы... Да пошло оно все... Через день он уже ехал в Италию, о чем сообщил Юлии с дороги. Три дня — и милая Венеция приняла его, путника, в свои объятия.

■
Ах, как сладко было кататься на гондолах по темно-зеленым, пахнущим водорослями и рыбой каналам! Благо и спутница нашлась — веселая, милая, тоже из России, путешественница, да еще и настроенная игриво — ее не пришлось долго упрашивать позировать нагой. Юлия была где-то далеко и будто не существовала вовсе. Правда, какие-то доброхоты доложили ей про его «катания», и в Венецию полетели письма, полные обид. Он читал их наискосок. Она вечно недовольна, сколько можно! Теперь, видите ли, Игорек плаксив...
Очарование поездки кончилось вдруг и сразу. В тот день он не получил от жены письма и вечером, глядя с балкона на прелестную Венецию, что еще шумела, но уже и убаюкивала сама себя, готовясь ко сну, он пережил приступ страшной боли и будто пришел в себя. Что я тут делаю, зачем я тут — один? На следующий день он понесся в Россию, тревожась — писем не было. Юлия встретила его странно отрешенным взглядом. Ни упрека, ни вопросов, ни истерик. Ей было не до него. Игорь умирал. Менингит.
Он умирал страшно, плакал, ничего нельзя было сделать. После похорон Юлия долго сидела, молча держа Бориса за руку. Седая прядь пробежала по волосам, тени залегли у глаз... Борис не знал, как вымолить прощение. Хотя она и не просила его ни о чем. Даже наоборот: поняв, что он считает смерть сына наказанием за свои грехи, она успокаивала его. И каждый из них решил, что историю можно начать писать с чистого листа.

■
Болевые приступы участились. В 1910 году он начал кричать от боли по ночам. И супруги отправились к светилам… Те опять говорили разное. Но сходились в одном: очевидно, где-то спряталась опухоль. Это она грызет позвоночник, так что спасение — в операции. Подобные операции сложны и сегодня, а в то время... Тем не менее ее сделали. Месяца три Борису было лучше. Потом все вернулось на круги своя...
Шесть лет адских страданий. К 1916 году терпеть боли он уже не мог. При этом не переставал писать. И чем сильнее были приступы, тем солнечнее становились его картины. Наконец назначили вторую операцию.
...4 марта 1916 года в коридоре клиники доктора Германа Оппенштейна Юлии Евстафьевне казалось, что время остановилось. Они оперируют Борю уже час. Наркоз дали на пять часов, она знает. Еще четыре... Неожиданно в коридоре появился сам Оппенштейн.
— Мадам, ваш супруг без сознания и не может принимать решений. Опухоль в спинномозговом канале огромна. Добраться до нее можно лишь при условии, что будут перерезаны нервные окончания. Вам нужно принять решение: что вы ему оставите в рабочем состоянии — руки или ноги? И вы должны понимать последствия.
Как все кружится перед глазами — мир, коридор с его диванчиками, белыми шкафчиками, медсестрами... О чем говорит этот сухой и, как ей кажется, черствый человек, о каких последствиях? Что сейчас в ее воле решать — превратить его в сидящего в кресле инвалида или... Но… Боря погибнет, если он не сможет рисовать!
— Оставьте ему руки. Он же художник.
Странно, но у нее даже не дрогнул голос.
— Вы понимаете, мадам...
— Что я буду прикована к нему, как он — к инвалидному креслу? Но это мой муж. Я люблю его. Безумно.
Что-то в ее интонации заставило доктора вздрогнуть. Кивнув, он удалился. Еще через шесть часов сидящей в коридоре женщине с белой прядью в темных волосах сообщили, что ее муж приходит в себя. На следующий день ему все объяснили. Он благодарно улыбнулся: жена была права. И попросил принести бумагу и карандаш... В 38 лет он навсегда потерял способность ходить.

■
Но через какое-то время боли вернулись. Сначала несильные. Борис скрывал это. Юлия поняла — увидела их отражение в его глазах. Она постоянно была рядом. Но теперь ему это никогда не надоедало. Его новый стиль вызывал пересуды — что, мол, это за «цыганщина». Но зрители потоньше видели то, что он хотел передать, — красоту и чудо жизни. В одном из писем Кустодиев сознавался: «Так как миp мой тепеpь только моя комната, так уж очень тоскливо без света и солнышка. Вот и занимаюсь тем, что стаpаюсь на каpтинах своих это солнышко, хотя бы только отблески его, поймать и запечатлеть». И еще: «Мои каpтины я не пишу с натуpы, это все плод моего вообpажения, фантазии. Их называют «натуpалистическими» только потому, что они пpоизводят впечатление действительной жизни, котоpую, однако, я сам никогда не видел и котоpая никогда не существовала…»
Самоценность жизни стала его культом. И если раньше он замечал, что «жить хотят все, даже таракан», теперь расставлял акценты несколько иначе: «Я рад тому, что живу, вижу голубое небо — и за это спасибо».
«У тебя на палитре все цвета такие вкусные, сочные, прямо... съесть хочется!» — восхищалась жена. Он улыбался. Она понимала, как это вкусно — жить...
■
Кустодиев принял революцию. Возможно, потому, что прекрасно понимал, что никуда не сможет уехать — в том виде, в котором находился теперь. Да и власть приняла его... Он рисовал плакаты, агитки, оформлял обложки книг, добившись главного: его не трогали. Да и платили за это то дровами, то продуктовым пайком...
Даже штатские «Швондеры» и «революционные матросы», приходившие к Кустодиевым для проверки квартиры, попадали под мягкое обаяние самого художника и магию его картин.
■
Несмотря на то что Кустодиев свои картины «видел в голове, будто кино», его брату Мише и Юлии хотелось вывозить Борю на прогулки. Хитроумный мольберт, что менял положение и мог спускаться к его кровати, придумала Юлия. Автомобиль же, названный в честью любимой собаки Кустодиева «Пегги», собрал из ничего Миша, ставший, как и обещалось, «технарем». И в мае 1927 года Кустодиев, Юлия и Миша отправились навещать Алексея Толстого — он только что вернулся из-за границы и зазывал к себе.
Ах, какой это был счастливый день! В открытой машине — Миша не успел доделать раздвижную крышу — Борис украдкой целовал жену, шутил. На обратной дороге их застал дождь, вдруг ставший ледяным. Как ни закрывали Бориса пледом, он промок, и вечером следующего дня поднялась температура. Все обойдется, надеялась Юлия. Скорее бы поправился! Правительство разрешило выехать на операцию в Германию...
Утром 26 мая она вошла в его комнату. Борис смотрел отрешенно. Она, продолжая что-то говорить, поправила одеяло. И только коснувшись ледяной руки — зарыдала.
...Она осталась жить в Ленинграде — тут же Боринькина могила. Когда началась война, и не думала об эвакуации. Последним испытанием для Юлии Прошинской стала блокада.
Она умерла в 1942 году — в ледяном, голодном, но гордом и великом городе. Не переставая любить своего Борю.