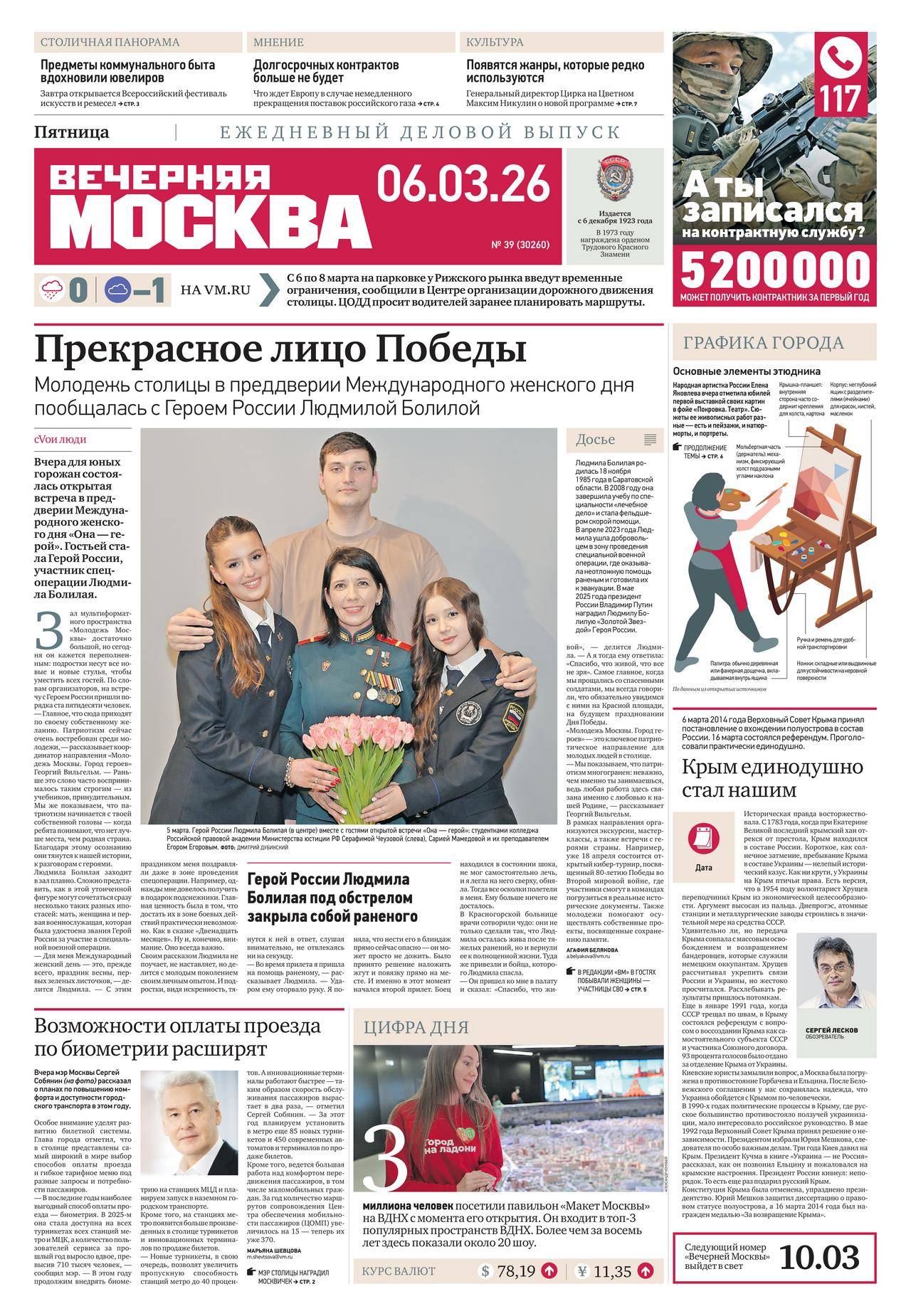Двенадцать. Судьбы литераторов через призму двух революций
Сюжет:
Великий векЗнаковым и символичным для России числом «Двенадцать» назвал свою знаменитую поэму Александр Блок, признавая при этом, что он и сам толком не понял, что написал… В разные времена эту поэму и трактовали по-разному, видя в «двенадцати» то апостолов, то наряд вооруженных красноармейцев. А в Гослитмузее путем долгого отбора и споров выделили двенадцать имен литераторов, на судьбы и творчество которых революция имела такое разное воздействие. Выбор персоналий можно обсуждать и оспаривать, но он объясним: все эти люди были знаковыми личностями для своего времени. Только, пожалуй, имя Луначарского нуждается в отдельном комментарии — о чем позже.
А ведь всем им казалось, что рельсы жизни уже проложены… Но, налетев на 1917 год, летевшая паровозом жизнь отправилась под откос. Вдруг кончилось все, кроме чернил в чернильнице. И когда перо касалось бумаги — в дни февраля и октября 1917-го, на ней оставались удивительно свежие, острые строки, очень разные — от горьких, с криком, до испуганных и обожженных. Все двенадцать остались в истории, прочно заняв там свое место.
ПОНЯВШИЕ И ПРИНЯВШИЕ
Как было бы просто, если бы соотнесение себя с революцией и причаливание к какому-либо из лагерей определило и дальнейшую судьбу! Но в том и дело, что даже лояльное отношение к новому миропорядку не гарантировало ничего — ни спокойствия и защищенности, ни успеха. И это прослеживается практически во всех судьбах литераторов начала ХХ века.
Скажем, Владимир Маяковский и Александр Блок приняли и Февральскую, и Октябрьскую революции. Выбор обоих поэтов в принципе был однозначным и заранее подготовленным. Так, Маяковский пишет в августе 1917-го: «Россия понемногу откеренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф». А в октябре рассуждает: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичейфутуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать».
Однако есть в его стихах нечто сквозящее между строк, возможно — даже им самим недооцененное. В «Оде революции» стучит в виски ломкий, колючий набат-подозрение:
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?..
До рокового выстрела оставалось чуть больше десяти лет…
А что же Блок? В марте 1917 года он пишет матери, Александре Кублицкой-Пиоттух из Петрограда: «Все происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России. Минуты, разумеется, очень опасные, но опасность, если она и предстоит, освящена, чего очень давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке. Для меня мыслима и приемлема будущая Россия как великая демократия. Все мои пока немногочисленные впечатления от нового строя — самые лучшие, думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует».
А в январе 1918-го заканчивает «Интеллигенцию и революцию» фактически признанием в любви дерзновенному Октябрю: «Мир и братство народов — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать… Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».
Но первые признаки депрессии — не за горами. Что-то в этой благости его душа не принимает и начинает болеть…
До определенного момента судьба была благосклонна к полностью принявшему революцию Демьяну Бедному. Он вошел в партию большевиков за пять лет до революции, пропуск в Смольный получил из рук Дзержинского, а в 1918 году вместе с советским правительством переехал в Москву, где получил квартиру в Большом Кремлевском дворце. 25 октября 1917 года Бедный дышит в одном ритме с революцией и будто подписывает ей дарственную на свою жизнь:
Будет, нет ли — продолженье?
Как сказать? Идет сраженье.
Не до повести. Спешу.
Жив останусь — допишу.
Демьян Бедный первым был награжден боевым орденом за литературный труд (орден Красного Знамени, апрель 1923 года), но впоследствии его подвергли критике и исключили из партии. Впрочем, он вновь смог заслужить доверие, хотя это было и непросто, но былой славы уже не имел.
Принял февраль и один из вождей декадентов Валерий Брюсов. 7 марта в письме Максиму Горькому он отмечает: «Искренно кажется, что все это — сон, магическое наваждение. Все мы ждали и верили, что жданное сбудется «когдато», через годы, и вдруг, чуть не в один день, мечта стала просто правдой. Предвижу, конечно, разные опасности, но все же то, что есть слишком хорошо: почти — «страшно».
Но, судя по всему, все проходит не бесследно: работая в различных отделах Народного комиссариата просвещения, он был выведен бывшими сотоварищами из ряда литературных объединений «за скобки». Ощущая внутренние терзания, уже в конце 1917 года Брюсов пишет, пророчествуя: «Все, что сколько-нибудь несомненно в будущем, — говорит о чем-то трудном, тяжелом и скорбном…»
В 1919 году Брюсов стал членом российской Коммунистической партии (большевиков) и, по мнению многих, по сути «исписался».
А вот Максим Горький, в советские времена подаваемый исключительно как «пролетарский писатель», вернется из эмиграции и даже постарается найти точки соприкосновения с новой властью. Горький аплодировал февралю, а вот за неделю до Октябрьского восстания в статье «Нельзя молчать!» призывал большевиков отказаться от «выступления», боясь, что «события примут кровавый и погромный характер». Большевики не могли простить писателю его жесткой критики «издержек» революции, ее «теневых сторон», а тем более — брошенных в лицо новым вождям обвинений в «уничтожении свободы печати», «авантюризме» и оправдании «деспотизма власти». Конец 1917-го Горький встретил тонко философичными «Несвоевременными мыслями»: «Все подлое и скверное, что есть на земле, сделано и делается нами, и все прекрасное, разумное, к чему стремимся мы, — в нас живет».
Впрочем, вера в человечное и человеческое не спасла писателя от претензий властей. И смерть его до сих пор окутана таинственными недомолвками.
НЕ ПОНЯВШИЕ И НЕ ПРИНЯВШИЕ
Иван Бунин и Зинаида Гиппиус были и остались непримиримыми противниками Советов (в отличие от Алексея Ремизова, который всерьез задумывался о возвращении на родину). Для Гиппиус, прервавшей отношения с Валерием Брюсовым, Александром Блоком и Андреем Белым ввиду несходства взглядов, Октябрь — «царство Антихриста» и торжество «надменного зла». 9 ноября 1917 года она пишет колкие строки:
Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам…
ГОЛОВА КРУГОМ
Спустя двадцать пять лет скитаний вернется в Россию Александр Вертинский, «богемный» поэт и исполнитель популярных «песенок», кумир света и полусвета. Он уверял, что революция на него «не повлияла никак», однако сценарий его жизни был явно изменен 1917 годом. Бенефис Вертинского в Москве состоялся в роковой для России день — 25 октября. Покидая театр «на трех возках, заваленных цветами и подарками», Вертинский услышал выстрелы на Страстном бульваре. Извозчики мирно «попросят» пассажира: «Слезай, барин. Дальше не поедем. Стреляют». Так обыденно начнется для Вертинского революция, которую он упор- но не хотел замечать… А дальше будет эмиграция, попытки вернуться обратно, и, наконец, возвращение в мрачном 1943 году. Возвращение принесло ему и радость, и дикую боль: при бешеной популярности официальные власти будто не видели исполнителя и поэта... После блестяще проведенного концерта он скончается от острой сердечной недостаточности в гостинице «Астория» в Ленинграде.
Максимилиан Волошин, по воспоминаниям Екатерины Бальмонт, жены поэта Бальмонта, во время февральских событий «один понимал по-настоящему, что такое свобода». Но дальше голова его закружилась от перемен и событий. Уже переехав в Крым, он пишет стихи, сравнивая русскую революцию с французской, проводя аналогию между ними, а тем временем спасает в своем доме преследуемых: красных от белых, а после перемены власти — белых от красных. В 1920-м он пишет «Россию распятую», где осознает: «И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного времени». И намного жестче были его признания, сделанные в Коктебеле в ноябре 1917 года:
С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах…
ИСКАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Любопытно, что отлично вписался в революцию драматург, переводчик, литературный критик Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения советского правительства. За долгие годы советской власти его образ и значение трансформировались в сознании большинства, и ныне представление о том, каким был Анатолий Васильевич на самом деле, весьма далеко от истины. Будущий вождь революции дал ему кличку «миноносец Легкомысленный» — таким образом ставя ему в вину некий дилетантизм в ряде вопросов. Однако именно Луначарский «наводил мосты» между интеллигенцией и новой властью и заступался за деятелей культуры перед самим Лениным. Именно к Луначарскому из Полтавы взывал Короленко, прося остановить красный террор, Луначарский, как мог, препятствовал разрушению памятников культуры. В 1920 году нарком возглавил Пролеткульт. Как бы кто к этому ни относился, но за короткий срок около 7 миллионов человек обучились грамоте. Звезда Луначарского начала блекнуть после смерти Ленина, но до 1929 года он бессменно возглавлял Наркомпрос.
21 марта 1917 года в письме к жене Анне из Цюриха он отмечает: «Ленин произвел на меня прекрасное, даже грандиозное, хотя и трагическое, почти мрачное впечатление… Завтра ряд политических разговоров большой важности, в которых, так сказать, решится моя судьба...» О, жизнь! После такого признания Луначарский будто вскользь добавляет: «Купил себе страшно симпатичные часы-хронометр за 36 франков, 5 лет гарантии…», а потом заканчивает мысль: «Но Ленин — грандиозен. Какой-то тоскующий лев, отправляющийся на отчаянный бой».
В октябре 1917 года Луначарский выражает призрачную надежду на приближение постреволюционного мира: «Переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которой он был произведен. Даже враги говорят: «Лихо!» Войска дисциплины не нарушают. Хотя в Зимнем дворце был все же разгром и эксцессы (убийств не было), за которые страшно и тяжко нести ответственность. Что ж делать. Зато, быть может, это приближает мир. Что может быть хуже продолжения чудовищной «узаконенной» бойни на фронтах…» Но все закручивается по спирали. Он обретает себя в рамках новой власти, и, наверное, его позиции и весу должны быть благодарны в том числе и москвичи — это он не позволил разбомбить Кремль и кремлевские храмы…
Но революция выпила его, обессилила. И отправляясь на работу постпредом в Испанию, он и не думает о том, что это путь в вечность — в тихой Ментоне, не доехав до места, выгоревший до срока Луначарский погибает «от сердца»...
СУДЬБЫ «ДВЕНАДЦАТИ»
Владимир Маяковский (1893–1930) Революцию принял — и Февральскую, и Октябрьскую. Покончил с собой 14 апреля 1930 года.
Александр Блок (1880–1921) Cначала с пониманием, потом настороженно отнесся к октябрьской смене власти. Умер от истощения и депрессии.
Иван Бунин (1870–1953) Не принял октябрьского переворота. Эмигрировал в 1920 году. Возвращаться на родину отказался.
Алексей Ремизов (1877–1957) Был категорически против установления советской власти. Эмигрировал в 1919 году.
Максим Горький (1868–1936) Поддерживал Февраль, октябрьский переворот считал преждевременным. Обстоятельства смерти подозрительны.
Анатолий Луначарский (1875–1933) Принял перемены, склонял интеллигенцию на сторону большевиков. Умер от стенокардии в Ментоне.
Демьян Бедный (1883–1945) Революцию принял, но подвергался опале. Вернул себе расположение властей «антифашистскими заметками».
Зинаида Гиппиус (1869–1945) Вместе с мужем, Д. Мережковским, встретила Октябрь с непримиримой враждебностью. Эмигрировала в 1920 году.
Александр Вертинский (1889–1957) Уверял, что революция его не касается. Вернулся в 1943-м, умер от сердечной недостаточности.
Максимилиан Волошин (1877–1932) Смирился с новой властью. Спасал белых от красных и красных от белых. Умер от воспаления легких.
Марина Цветаева (1892–1941) Приняла Февраль, но не Октябрь. После эмиграции подверглась травле. Покончила с собой.
Валерий Брюсов (1873–1924) Приветствовал большевистский переворот, сотрудничал с властями. Тронут не был. Умер в Москве.
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РЕВОЛЮЦИЮ, ПОСМОТРИТЕ НА ПРОИСХОДИВШЕЕ СТО ЛЕТ НАЗАД С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
Дарья Каверина, главный хранитель Государственного литературного музея:
- Посетители выставки «Двенадцать. Русские писатели как зеркало революции 1917 года» смогут взглянуть на историю русских революций 1917 года через призму русской литературы и судеб писателей. Несхожесть индивидуальностей этих людей, их судеб и дарований позволяет нам увидеть происходившее сто лет назад с различных, порой прямо противоположных точек зрения. Именно такой подход придает нашему взгляду объем и объективность. Что же касается выбора героев выставки, то он в значительной мере обусловлен наличием в коллекции Государственного литературного музея предметов, связанных с революционными событиями 1917 года.
Связующим элементом двенадцати разделов выставки станет кинохроника, которая будет демонстрироваться на больших экранах на всем пространстве выставки и позволит зрителям погрузиться в атмосферу 1917 года. Важную роль на выставке будет играть звуковой ряд. Предполагается широкое использование записей литературных текстов в авторском и актерском исполнении.
В ТЕМУ
Выставка «Двенадцать. Русские писатели как зеркало русской революции 1917 года» будет работать с 17 марта по 18 мая 2017 года в отделе Государственного литературного музея «Дом И. С. Остроухова» по адресу: Москва, Трубниковский переулок, 17.