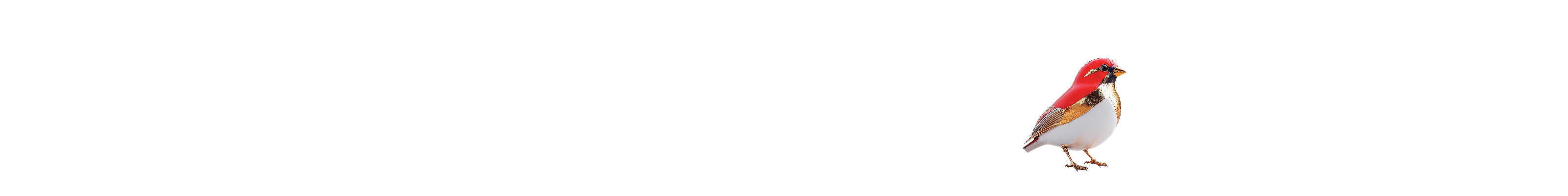Забытая поэтесса. Памяти Инны Кашежевой
Знаменитая Кашежева! Когда-то самая молодая звезда эстрадной поэзии.
Песни на ее стихи с утра до ночи крутили по радиостанции «Юность». Ее пластинки и книги выходили немыслимыми, по сегодняшним меркам, тиражами.
Мы виделись всего лишь однажды. Но до и после — почти два года телефонных разговоров, стихов, монологов или почтительных пауз. Наш телефонный сериал возник как побочное дитя моей поэтической антологии «Московская муза».
Не устаю повторять, как я благодарна Инне Кашежевой, как летела к телефону в 11 или в 12 ночи, зная, что только она может позвонить в это время: ведь она — человек богемы, а я — трудящаяся жена, мать, научный редактор и шофер в одном лице. Она не понимала, как можно так рабски жить, ко времени просыпаться и идти на службу, приковывать себя добровольно к рабочему столу, выполнять план, вовремя возвращаться домой, готовить ужин и при этом писать стихи. Моя двойная двужильная жизнь была ей неблизка.
Получив гонорар за «Московскую музу», я купила длинное демисезонное пальто и издала книгу стихов.
Кашежева, уже тяжело больная, радовалась за меня. Ее покалеченные в аварии ноги не слушались: кости ломило, ныли тромбозные вены. Она ходила на костылях. Раз в неделю заставляла себя приезжать в газету «Достоинство», где — золотое перо! — подрабатывала статьями на социальные темы. С деньгами и лекарствами было туго.
А я с оказией получила посылку из Франции. Спросила разрешения привезти лекарства.
— Что вы, это очень дорого, я не смогу заплатить.
И только узнав, что это гуманитарная помощь, разрешила: — Опустите лекарства в почтовый ящик. Я не в силах открыть дверь. На пуфике доезжаю только до туалета и обратно. И к тому же я совсем без зубов. Не хочу, чтобы вы меня увидели такой: в роскошной квартире с белыми стенами, белыми шелковыми шторами, в роскошной двуспальной белой кровати — и с черной пропастью беззубого рта.
По моим представлениям, Кашежева была непомерно гордой и взрывной. Не уверена, умела ли она прощать? Однажды Римма Казакова призналась: — Это Инка научила меня читать с эстрады.
У меня раньше и голос пропадал, и стихи забывала. А Инка всегда выходила как на бой или как на праздник в своем ауле, знала, когда пошутить, когда похулиганить. Выглядела просто, строго, по-европейски: черные брюки, белый свитер, короткая стрижка. Ее не отпускали со сцены, забрасывали цветами. А какие у нее были паузы! И меня, как зверька, буквально выдрессировала, научила чувствовать зал и не бояться.
Помню нашу встречу.
Праздничные майские дни.
В Центральном доме работников искусств — презентация антологии «Московская муза». Ведущая вечера — Тамара Жирмунская. Вокруг нее на сцене за колченогим журнальным столиком Римма Казакова, Татьяна Кузовлева, Татьяна Бек. Римма, встрепанная и возбужденная, то и дело открывала пудреницу и проходилась пуховкой по блестевшему носу. Одна за другой читали Лариса Румарчук, Елена Николаевская, Елена Исаева, Нина Краснова и другие...
С верхних рядов что-то зашумело, потом загрохотало и с нарастающей громкостью своенравной волной покатилось по деревянным ступенькам прямо к сцене.
Римма замолчала. Сощурившись и вытянув шею, она всматривалась сквозь свет софитов в сторону приближавшегося деревянного грохота:
— Кто там гремит? Господи, неужели Кашежева?
— Я, Риммочка, все еще я, дорогая моя! Решилась в свет выйти. Видишь, парадный фрак из сундука достала, галстук — на шею, костыли — под мышки и к вам, мои дорогие подруги, прямо в объятия к вам! Очень хотелось увидеть виновницу этого торжества.
— Инна, дорогая, иди на сцену, — перебила Жирмунская, — садись с нами. Ты читать будешь?
— Ты же знаешь, Тамара, я уже больше десяти лет не выхожу на сцену. Я сюда не за этим пришла. Я специально вылезла из своей берлоги, чтобы при всех и от всех, дорогие коллеги, поклониться в пояс одной отчаянной женщине, московской музе, которая вспомнила о нас и собрала в одной книге… Почему ты здесь командуешь, Тамарка? — она вдруг перешла на крик.
Жирмунская вызвала меня на сцену.
— А ты, Инна, не стой на ступеньках, тебе же тяжело. Давай садись рядом с нами, мы тебе поможем!
И она — то ли подросток, то ли проворная старушонка — неожиданно ловко вспрыгнула и присела на самом краешке сцены, спустив ноги.
Сначала она чмокала, что-то невнятно бубнила себе под нос, потом в полный голос стала беспощадно комментировать каждое выступление: — Ты семь лет не писала, так и не пиши больше! — Ну и ритм… Надо же: два притопа, три прихлопа… слушать тошно.
— Твои стихи лучше гвоздем на заборе писать, а не бумагу портить, — вынесла приговор Кашежева, услышав матерком разукрашенные строчки...
Мы продолжали дружить по телефону. Общее одиночество не отпускало нас.
Она мало с кем общалась, осознанно выйдя из литературного круга. Так уходят со сцены или в монастырь. Ей стали неприятны поклонники ее поэзии, очевидцы головокружительного взлета. На телефонные звонки почти не отвечала. Она искала забвения, но и спасительную соломинку тоже искала, одновременно подставляя дружеское плечо.
Однажды узнаю от Тамары Жирмунской, что Кашежева чуть ли не голодает. Дочь ее очень близкой и уже умершей подруги Наташи, студентка юрфака Маша (они жили вместе в одной квартире, а другую сдавали), уходя на весь день, оставляет ей только порцию пельменей: шесть штук! — Надо спасать Инну! Ей очень плохо, и телефон молчит! Ночью до нее дозвонилась Римма Казакова:
— Инна, давай я к тебе приеду, с Машей поговорю. Что ты от всех отгородилась, в затворницы играешь? Ведь у тебя и друзья, и поклонники, и Союз писателей, наконец. Может, тебя в больницу или в санаторий направить?
— Спасибо, подруга, за беспокойство, но я не нуждаюсь ни в какой помощи, тем более Союза писателей, — резко оборвала Кашежева. — У меня есть все. Зря вы себе страшилки рисуете, бабы! На следующий день Инна Иналовна перезвонила мне и нарочито веселым голосом, будто анекдот рассказывала, убеждала, что все у нее как надо, все хорошо, а всякие бабские домыслы смешны и нелепы. И, сменив тему, прочитала свои стихи об Анне Ахматовой.
Это было в начале весны 2000 года. А в середине мая позвонила Маша.
— Несколько дней назад схоронили Инну Иналовну.
— Не может быть! Как же так, Маша? Когда? Почему ты мне не позвонила, почему не сказала?
— Инна Иналовна никого не хотела видеть. И не хотела, чтобы ее кто-то видел. Особенно те, — Маша запнулась, — кого она любила.
Она положила трубку. Так же внезапно Маша вдруг исчезла в необъятной Москве, а в той квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров поселились другие люди.
Вместе с Машей исчез архив Инны Кашежевой.
Мы с Риммой собирались поехать на Хованское кладбище, на могилу Инны, издать книгу ее избранного, но, увы… Теперь уже нет и Риммы. Ни Кашежеву, ни Казакову я не видела мертвыми. Они обе для меня остаются живыми.
СПРАВКА "ВМ"
Вечер, во время которого и произошла встреча Климовой и Кашежевой, стал историческим событием. Это было мероприятие, посвященное выходу первой и единственной на сегодня антологии московской женской поэзии «Московская муза». Его составитель — Галина Климова — работала над книгой много лет и собрала под одной обложкой 180 поэтесс, творивших с XVII века по наши дни. Многие поэтессы, встретившиеся в тот день на сцене, больше никогда не виделись...
КСТАТИ
Кашежева была автором хитов Пугачевой, Хиля и Кобзона.
И хотя некоторые ее песни вроде «Лунного камня» помнят до сих пор, сегодня очевидно, что настоящую ценность представляли ее стихи.
Мы пробивались сквозь табу,
Искали черный ход,
Чтоб превратить ее, толпу,
Опять в родной народ.
Мы поднимались в небеса,
Парили в облаках…
Остались наши голоса
Навеки в Лужниках.
ОБ АВТОРЕ
Галина Климова — известный поэт и переводчик. Долгое время Климова (географ по образованию) работала в издательстве «Большая советская энциклопедия». «Что у вас назавтра, пирожки или статьи по географии?» — иронизировала над ней Кашежева.