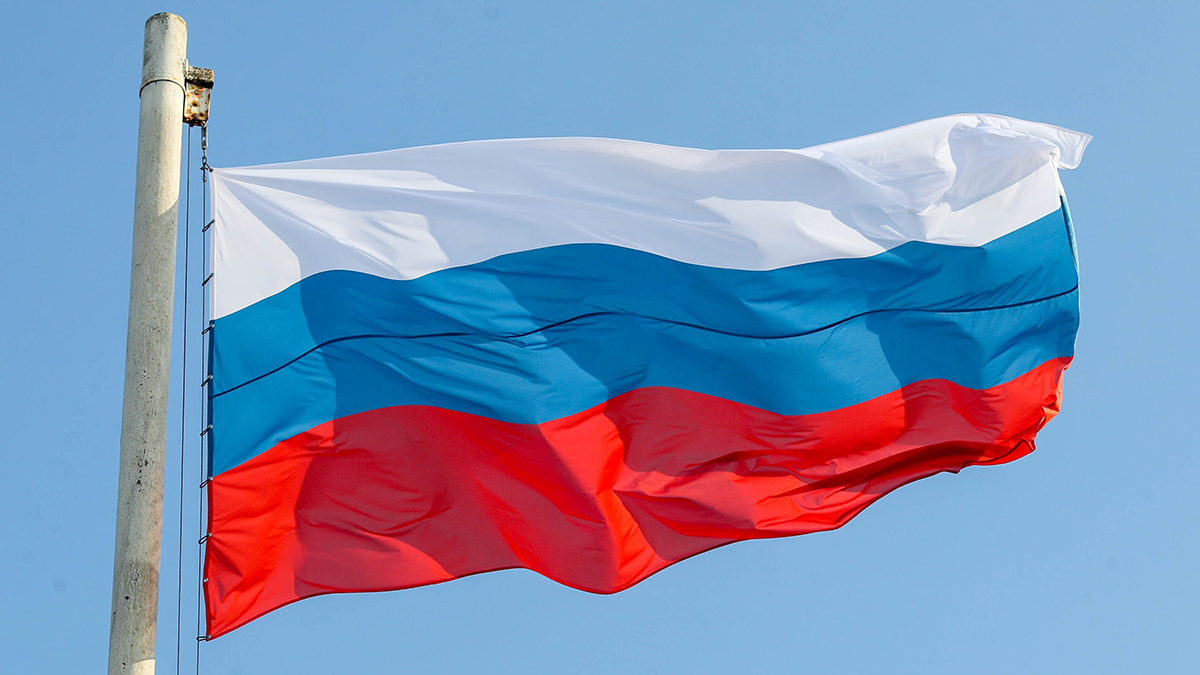Писатель Валерий Шульжик: Нам необходима нравственная цензура
Судьба Валерия Шульжика удивительна и ярка, как и созданные им герои, многих из которых невольно оттеснил в сторону поросенок Фунтик, герой десяти книг и замечательных популярных мультфильмов. Впрочем, назвать Валерия Владимировича «чисто детским» писателем было бы несправедливо: он хоть и связан полжизни с детской литературой и поэзией и даже как актер признавался за Уралом лучшей Бабой-ягой, но много писал и для взрослых. Но поскольку юбилей всегда заставляет подводить некие промежуточные итоги, разговор все же крутился вокруг литературы детской. Как оказалось, говорили о больном. Хотя юбиляр нас за это, кажется, простил.
— Вы только имейте в виду, что это размышления человека, которому через два дня стукнет 80, как это ни печально! — строго заметил он и... улыбнулся. Мол, уже могу себе позволить.
— Валерий Владимирович, если уж вы с возраста начали, признайтесь — философствуете?
— Ну, иногда. Размышляю вот о чем. Парадоксальная вещь: раньше были диктат и несвобода, и всем невероятно хотелось говорить, да так, чтобы их услышали. Сейчас диктатуры нет, но никто ничего не хочет слушать!
— Наверное, да. Но тогда на помощь приходит эпатаж — верный способ привлечь внимание. Вы не согласны, что у нас сейчас — время эпатажа?
— Соглашусь, думаю. Но и с ним все непросто. Вот у нас как-то художник Павленский поджег дверь ФСБ, так ему, бедолаге, десять минут пришлось ждать, чтобы они вышли. Он думал, будет ах, ох! Прибил мошонку к брусчатке, и этому нашлись сострадатели. Я ему сказал: у, какого ты о себе мнения, гвозди большие взял! А выкинул такое же во Франции — и сразу сел. Там эти номера не проходят. Или был другой чудик, Кулик, который все собаку изображал... Я понимаю, что все это идет от отрезанного уха Ван Гога, но искусства в этом нет. Есть иное. Когда люди собирались на выставку, что вошла в историю как «Бульдозерная», они все думали, как сделать так, чтобы остаться в памяти. Я сказал: «Поставьте памятник бульдозеристу!» Выставка-то шла минут 15, потом все кончилось, но осталось «в веках». Все непросто. Эпатаж от настоящего отделить трудно.
— Но литература долго не сдавала свои позиции в плане «настоящести».
— И это неоднозначно. Точно одно: когда мы росли, у всех у нас были книги, которые закладывались в фундамент нашей нравственности. Для моего поколения это «Два капитана», «Белеет парус одинокий», «Сын полка», а из более «древних» «Черная курица» и «Дети подземелья». Это были те дубовые столбы, что были вколочены в землю под храмом Христа Спасителя! Я, когда прихожу на встречи с читателями и об этом заходит разговор, всегда спрашиваю: вот, скажем, вы в булочную за чем ходите? За хлебом. А в магазин одежды? За одеждой. А в библиотеку за чем? Отвечают: за книгами. А я отвечаю на это: нет, друзья, вы идете туда за судьбой. Вы начали жить, но вы этой жизни не знаете. Надо посмотреть ее, познать, прочувствовать. И от правильно выбранной профессии зависит ваше счастье. Это проверено! А сейчас по пять институтов кончают. И что? Я когда слышу такое, говорю: да этого «вечно учащегося» надо не хвалить, а наказать за то, что он занимал в институтах чужое место. Он же кому-то мешал!
— Ну а как же поиски себя, метания, терзания?
— Искать себя — это пожалуйста. Но пять институтов — это многовато. Со мной один человек учился на высших литературных курсах, они у него пятые по счету были. А ему сорок уже стукнуло! И все «искал». Я ему сказал тогда: «Юра, я позаботился о твоей судьбе. Ты будешь матерью Олега Кошевого!» Искания... Знаете, есть замечательное правило: если ты не можешь делать то, что любишь, полюби то, что делаешь.
— Это точно. Знаю по себе, что это работает.
— Я за границей вижу, с какой гордостью сидит на своем месте водитель автобуса. Он точно капитан «Титаника» — до встречи с айсбергом! И он может такое, чего не могут другие, из любого закутка свой «корабль» выведет. Потому что он — на своем месте. Но возвращаясь к детской литературе, скажу так: мой ранг и то место, которое я в ней занимаю, не позволяют мне говорить о ее судьбе «с высот», при этом я готов оставить «записки чернорабочего», наблюдающего за происходящим.
— Вы сказали — «столбы». Сейчас всех затмил Гарри Поттер. Кто-то скажет, что это плохо, а кто-то — хорошо, если дети читают хоть что-то.
— Да, и мои внуки говорят о нем. Но традиции русской литературы таковы, что герой не может просто так лететь на метле, если у него нет конечной цели. Наши сказки всегда были наполнены добром и глубоким внутренним смыслом. Именно поэтому Пиноккио Карло Коллоди, превратившись благодаря Толстому в Буратино, стал гораздо симпатичнее и добрее. И Винни Пух у Заходера лучше и добрее, чем у Милна. Пример про себя приведу. Я писал пьесу про Синдбада-морехода и решил про него почитать в первоисточнике, так сказать. Открыл «Тысячу и одну ночь». Так вот Синдбад однажды был похоронен заживо — помещен в склеп с запасом еды на семь дней, после чего, собственно, должен был погибнуть. Но он всех обхитрил: дождался, когда туда приведут такого же несчастного, убил его и воспользовался его провиантом. Вы понимаете, что такой «герой» героем для юных читателей быть не может?
— Значит, вы написали «русского» Синдбада?
— Да, и в этом смысле я очень счастливый автор, поскольку мои пьесы ставили пятьсот театров страны. Секрет прост: всем им надо было иметь постановку к Новому году. А тут — я. А «Бременских музыкантов» моих отобрали для постановки в самом Бремене, причем выбрали из ста, если не большего числа, пьес. Пьесы и сейчас ставят, я не жалуюсь. Но о тех процессах, что происходят в детской литературе и не могут радовать, мне говорить трудно еще и поэтому. Понимаете, не очень хочется обнаруживать свою творческую невостребованность и неудовлетворенность. Если ее ощущаешь, все сказанное будет восприниматься именно через эту призму, через обиду, но не в ней дело. Меня очень огорчает, что сегодня не то что ставить новое, а издавать новое не очень рвутся. В издательствах теперь больше любят считать, чем читать.
— Членам Союза писателей в СССР было проще?
— Уже не так важно. Куда важнее, что когда развалился СССР, а вслед за ним начали разваливаться прочие «Союзы», среди всех творческих (архитекторов, художников, журналистов) именно Союз писателей оказался самым непрочным. Его руководители начали растаскивать по кускам недвижимость, дома творчества, санатории и пансионаты, какие-то активы, и все это куда-то исчезало. Остальные пусть бедненько, но как-то продолжали существовать, а писательский... Святая святых — ресторан писательский —и тот уже купили другие люди, там теперь миллионные банкеты. Зато сейчас таких союзов пять. И чтобы доказать, что ты писатель, достаточно иметь в руке шариковую ручку. А раньше надо было пройти пять туров тайных голосований...
— Да пусть их сколько угодно будет. Кризис идей пугает. Например, страшно раздражают уже ремейки всех сортов. Вас они не «напрягают»?
— Вот сейчас отсняли уже шесть серий нового «Простоквашина». Вспоминается мне старый анекдот. «Говорят — Паваротти, Паваротти, а ничего в нем особенного нет. А ты слышал? Нет, но мне Абрамович напел». Так вот «Простоквашино» новое — это «напетое Абрамовичем». Киностудия может владеть брендами, но я уверен: никто не может дать право дописывать за Толстого «Анну Каренину» после того, как ее уже распилил поезд. Наша культура этого не предполагает, согласны?
— Пожалуй, да.
— Хочу, кстати, сказать, что Эдик Успенский был очень талантливый писатель, но человек, прямо скажем, не лучший. Отлично помню, как мы делали с ним несколько представлений. Дети рисовали рисунки, и так вышло, что Фунтик на них встречался чаще. Эдик был возмущен: мой герой, Чебурашка, более значимый, чем твой! Так что часть рисунков нужно снять! Но это же дети... Он очень был непростой, факт. Но все, что он делал, было великолепно — и его книги (по отзывам, кроме последней, «Моя жена — б...», которую я решил не читать), и проект на телевидении «В нашу гавань заходили корабли». Это мое мнение, но мы совершаем ошибку, когда ставим знак равенства между писателем и его героями и тем, что он пишет. Все-таки разница есть. И доснятое после Эдика «Простоквашино» — это уже не то «Простоквашино», понимаете? Это о ремейках... Вот вы говорите — «кризис идей». Может, и так. Но никто ничего и не хочет придумывать — есть рынок и раскрученный продукт. Можно лепить новые поделки, не тратясь на их раскрутку. Только и всего. Мне с Фунтиком повезло, потому что он имел мультипликационный вариант. Я десять книг про него написал! Но не будь мультипликации, это не было бы так востребовано.
— А мне вашу Белладонну всегда было жаль. Как и Волка в «Ну, погоди». Я думаю, что ценность наших книг и мультфильмов была еще и в неоднозначности, многоцветности героев. Приходилось размышлять, кто из них хорош, кто плох.
— Белладонну многие жалели. А Заяц какой наглый был! Нахал! Кстати, обратите внимание: два наших самых удачных во всех смыслах мультфильма — «Маша и Медведь» и «Простоквашино» — с точки зрения нравственности в с старые времена просто не могли выйти. Сами посудите: мама дяди Федора где-то вечно на гастролях, платья меняет, а сын живет в деревне с собакой, котом и коровой.
— И папа подкаблучник.
— Да! А Маша вообще живет вместе с Медведем и ни разу не заглянула к бабушке.
— А своего добивается истериками.
— Да, она такая... сволочушка, но приятная. Вот мы и размышляем об этом, но для этого нужно знать основы какие-то, от вечных ценностей отталкиваться. А я тут был на встрече с педагогами из Подмосковья. Из двадцати человек никто не смог объяснить, что такое «Болдинская осень». Был вариант — «осень поздняя». Но ведь у них есть высшее образование?
— Вас заботит его уровень?
— Конечно. Потому что заботят дети. Я часто с ними общаюсь. Вижу разницу. В одном классе — наслаждение побывать. Дети рвутся вперед, вопросы задают, глаза горят, фантазируют. А в параллельном — сидят забитые, только и ждут, чтобы звонок прозвенел, всем им скучно.
— Это вина родителей?
— Только от учителя все! Я уверен. Вообще все из детства... Когда мы жили на Сахалине, там японцы работали. Война закончилась быстро, они были несчастные, их называли «ходя». Запомнил на всю жизнь: один такой пришел к моей маме с пилой, спросил: «Мадама (именно так!), дрова попилить надо?» Мама говорит: нет, не надо. И протягивает ему хлеб — поешь. А он голодный, видно, но головой качает — нет. Она опять. Он снова качает головой: если возьму кусок, не отработав, я перестану быть японцем... Я на всю жизнь это запомнил. И у меня, когда какие-то жизненные дилеммы возникают, срабатывает это мерило: не переставай, Валера, быть японцем! Стараюсь...
Меня шокирует многое. Недавно на выставке увидел книжку «Бабушка, а что такое секс?» Издали, продают. Представил, что было бы, если бы я спросил об этом у своей бабушки Акулины Даниловны. Она упала бы в обморок! Конечно, она слова такого не знала, но ведь дело не в этом. Эти знания нужны, конечно, но их нужно преподносить тонко, очень чистыми руками...
— Какой-то печальный разговор получается. Вы же не хотите сказать, что мы шагнули в какую-то пропасть серости и безнравственности?
— Знаете, когда космонавты начали сеять на орбите, в космосе, горох, он всходил и торчал в разные стороны. Научный факт! Не было земного тяготения, вот он и рос, куда хотел. Ведь оно определяет, что корни — внизу, а ствол тянется вверх. Мы потеряли какие-то вещи безвозвратно, это горько. И церковь матерью, по крайней мере пока, не стала. У нас отменена политическая цензура, это прекрасно! Но нравственная цензура должна, мне кажется, быть. А цензор кто? Отвечу: наша культурная элита.
— Хотите сказать, что она осталась?
— Есть люди, которые не перестали быть «японцами»! Я сейчас пишу книгу и по необходимости исследовал тему военных училищ царского времени. Поразительно. Откуда у нас на Бородинском поле брались офицеры четырнадцати лет от роду? А их же рано из домов забирали, ребят, учили, воспитывали. Так страна растила свою элиту, вот и появлялись Барклаи и Тушины. Как-то пятерых курсантов морского училища, живших на учениях в непростых условиях и истопивших в камине какие-то стульчики, распоряжением великого князя лишили дворянских званий и разжаловали в солдаты. Как вам? А вы спросите у наших депутатов — у многих из них дети в армии служили? Не будет леса рук! Я в армии два года служил, тем, кто три, казалось, что это мало. А сейчас на год идти не хотят. Убеждений нет, во что это плохо. Раньше верили, может, и в ложные идеи, но согласно этой вере жили, согласно ей воспитывали и детей. А если у чиновника за рубежом имущество, и дети там учатся с прицелом остаться там же навсегда, где логика, что с них спрашивать?
— Логики мало, прямо скажем. Но у них она — своя.
— Я признаки этой антилогики во многом вижу. Например, раньше детская книга стоила 40 копеек, а килограмм мяса — 2 рубля 50. Сейчас в магазине мясо стоит 300–500, а книга прилично изданная — 800, не меньше. Раньше все новые книги бибколлекторы рассылали по библиотекам автоматом. Если у меня вышли стихи тиражом 500 тысяч, я знал, что 250 ушло в библиотеки. Сейчас что? Я вот обожаю ходить на барахолки — там много интересного. Чашечка с отбитым краем — 200 рублей. Три томика Пушкина — сто. Когда я вижу у нас у мусорных ящиков книга, понимаю, что в доме умер еще один человек. И дети потащили все на помойку.
— Может быть, если вернуться к детям, вся проблема в том, что мы их слишком от всего бережем?
— Не знаю. Может быть. Страдания нельзя изучать заочно.
— Нужно ли?
— Я написал пьесу «Последний маленький солдат» и мечтал даже не о том, чтобы ее поставили, а о том, чтобы ее просто прочли. Людям моего поколения надо давать медаль за стояние в хлебных очередях. Надо было достоять, волнуясь, хватит ли хлеба, а потом его еще до дома донести, не съев по дороге. Об этом надо говорить, потому что душа человека должна быть способной на сострадание! Когда ты видишь замерзающего котенка, ты понимаешь, что он погибает, и принимаешь решение — спасти его или пройти мимо. Особенно если ты читал «Каштанку» или «Белого пуделя». В моем детстве вокруг упавшего на улице человека собиралась толпа. Сейчас через лежащего на улице могут и перешагнуть. И толпа мигом начинает звереть, если что-то не так. А у нас в войну украли хлебные карточки, и у нас с мамой и двумя сестрами был месяц на то, чтобы умереть. Нас спас мамин знакомый повар из ресторана. Он после закрытия отдавал нам селедочные головы, молоки и селедочную икру — тогда этого не ели. Не знаю его имени, но он живет внутри меня, этот человек, спасший меня. И кулек в бабушкиных руках помню: Акулина Даниловна работала в детской больнице, там детям давали коржики, и она потом ссыпала в кулек крошки из опусьевшей коробки и несла их мне. Как я ждал этого! Без памяти на добро нельзя жить.
— У вас фантастические были друзья в жизни — Вампилов, Рубцов. И такие горькие и короткие у них были судьбы. Почему так — с высоты ваших лет?
— Саша Вампилов... Мы дружили с памятного многим Всесоюзного Читинского совещания писателей. Откуда вообще взялись Вампилов, Распутин? В Сибирь и на Дальний Восток ссылали интеллигенцию, образовалась удивительно плодородная почва, на которой не могло не прорасти что-то хорошее. В Чите отметили тогда десяток подающих надежды писателей — Вампилова, Распутина, Машкина, и все состоялись в общем-то. Что же касается ранних уходов... Моя теория не научна совсем, но я думаю, что писатель умирает, когда все написал, когда сказал последнее слово. Саше Вампилову же я особенно благодарен. Ермоловский театр боялся ставить его «Утиную охоту». Он как-то пошел туда, в театр, и отнес мою пьесу «Бременские музыканты». И они ее поставили — думаю, испытывая перед Сашей некую неловкость.
— Неужели Рубцов написал все? Или Высоцкий?
— Да нет, написал бы еще, наверное. Но дверь туда, куда он ушел, открывается в одну сторону. Не заглянешь, не спросишь. Колю я умудрился описать в девятой книге про Фунтика, кстати. Там Белладонна приватизировала свалку, на которой разнесло на части ее миллион. И на презентации выступает поэт... Коля Рубцов был невероятно одарен. Однажды я увидел, что вокруг него на сцене курится фимиам. И воскликнул, что я всегда знал, что он ангел! Оказалось, софиты были горячими, и под ними начали сохнуть и «парить» его валенки, в которых он ходил до лета. Он был невероятным. Только когда выпивал, становился несносным, и кожаные пиджаки всякие, которые себя называли писателями, любили его подпаивать, чтобы доказать, что он ничтожество. И с Володей Высоцким мы были знакомы. Он написал ровно столько, сколько было нужно нашему народу. Вообще, он был вполне устроившимся в жизни человеком, хорошо знавшим себе цену, и обладал просто бешеным обаянием, что частенько его выручало — ведь даже те, перед кем он разово выступал, считали его своим другом. У него был администратор, Валера Янкович, так вот он единственный, кто ни разу со времени смерти Высоцкого не «засветился», а целая группа двадцать лет работала «друзьями Высоцкого». И продолжает работать. А вообще, у меня и правда было очень много любопытных знакомств в жизни. Это мое везение. Когда-то, например, мне как члену Союза писателей СССР был положен секретарь, и меня попросили взять парня, который был без работы. Я и взял. Его звали Амиран Квантришвили.
— Не может быть!!! (Амиран Квантришвили - знаменитый криминальных авторитет - прим.ред.)
— Может. Ничего, кстати, плохого о нем не могу сказать, только хорошее. С интересом за ним наблюдал, и отношения были очень хорошими. У меня даже есть пьеса, подписанная двумя нашими фамилиями, — уж очень ему хотелось этого.
— Этого факта вашей биографии я не видела нигде и никогда. И сколько же он у вас работал?
— До самой кончины, до 1993-го.
— Писатели продолжают оставаться «особым кланом»?
— У них особое место, наверное... Хотя есть настоящие писатели, которых никогда не издавали. У меня есть друг, Владимир Перельмутор, исключительный человек. Он занимается великим делом — разыскивает такие таланты. Открывает звезд. Недавно одного такого писателя напечатали — во всем мире, а он при жизни ни строчки набранной не увидел. Писатели... Хм...
Когда в 1980-х было голодно, ввели писательские продовольственные заказы. За ними приходили, но директор магазина умолял — только выходите тихо, не разворачивайте пакеты при всех. И выходили тихо! Тащили свои мешки. Но при этом хотели сеять разумное, доброе, вечное. С другой стороны, я как-то по поручению Союза писателей привез в Иркутск двух вьетнамских писателей. Один из них очень захотел посмотреть домик, в котором останавливался во время путешествия на Сахалин Чехов. Дождь, холодно, ехать не хочется. Я ему говорю — ну зачем тебе это? А он отвечает: «Знаешь, Валера, когда люди покорят пространство и расселятся по всем планетам, Землю будут определять так: а, это то место, где родился Чехов.» И мы поехали, конечно. Сейчас не до Чехова! Какие-то невероятные вещи происходят. Кто-то держит издательство и печатает только свою жену. Другой издатель сам решил написать азбуку. Господи, я, не открывая книги, понимал, что первым словом будет «арбуз». Что такое «Азбука» для писателей? Это Сапгир, Маршак. А тут человек что-то наляпал сам, заказал картинки, сам и издал, сам продает. Или вот встретил в «Морской азбуке» такое, на букву «С»: «Не всем доверит капитан потрогать старый свой секстан». Ну нет же слов, согласитесь!
— Капитану виднее... Почему все так?
— Знаете, у меня были невероятные учителя — Сапгир, Межиров, изумительный поэт, Аким... Они сеяли свое разумное, доброе, вечное, но очень хотели видеть кого-то рядом с собой. Сейчас те, кто пробился, никого рядом видеть не хотят — рынок! Разобщенность полная. И все зависит от статуса «рекомендован». Не сочтите за нытье!
— В результате страдает общее дело, как ни высокопарно это звучит?
— Очевидно. Но вот страничка детская в вашем еженедельнике, «Тургеня», мне очень нравится. Если бы я такое название придумал, я бы гордился.
СПРАВКА
Валерий Владимирович Шульжик — поэт, писатель, драматург, сценарист. Родился 27 июля 1939 года в городе Хабаровске. Работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, а затем актером Краевого ТЮЗа имени Ленинского комсомола. Писать начал в 1959 году. Уже в 1963 году вышла первая книжка поэта «Два арбуза», затем вторая — «Веселый мастерок». Окончил Высшие литературные курсы. Продолжая писать стихи для детей, автор пробовал свои силы в прозе. Им написаны повесть «Вот за тем поворотом…» и книга рассказов «Бухта-Барахта». Валерий Шульжик — автор многих пьес и автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике, многих поэтических сборников, член Союза писателей СССР (России). Живет в Москве.
Читайте также: Мария Шукшина опубликовала неизвестный рассказ отца