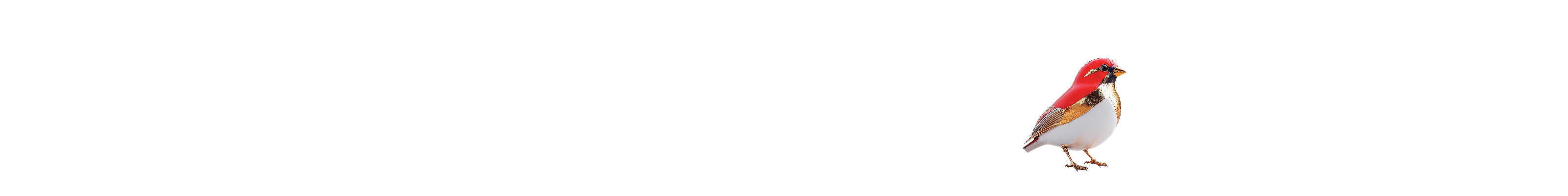Двор, в котором жила дочка Ленина
[i]В середине марта 1953 года наша семья переехала в кооперативный дом Малого театра, что находится в Воротниковском переулке рядом с метро «Маяковская». Название переулка происходит от «воротников» – тех, кто запирал и отпирал ворота города в стародавние времена. После арбатской коммуналки наша небольшая квартира показалась мне, семилетнему мальчику, настоящим раем…[/i][b]Наши соседи[/b]У нас во дворе живут: прима Большого театра Валерия Барсова, одна из знаменитейших актрис Малого Варвара Рыжова и ее сын, Николай Николаевич, тоже артист этого театра. Варвара Николаевна уже старенькая, сидит на балконе, закутанная в шаль, и постоянно двигает руками и ногами, поддерживая их «в форме». А вот спешит на спектакль Елена Николаевна Гоголева…Я вижу, как во двор въезжает на роскошном трофейном «Хорьхе» Исаак Осипович Дунаевский: навестить своего младшего сына Максима, который живет здесь с матерью. Мимо меня проходит грузный мужчина с одутловатым лицом, в очках. «Знаешь, кто это? – тихо спрашивает меня папа. – Мика Морозов, мальчик с портрета Валентина Серова». «И это – Мика?» – не могу поверить я. Оригинал так отличается от портрета! Столкнувшись нос к носу, раскланиваются два конферансье – Александр Абрамович Менделевич и Алексей Григорьевич Алексеев. А вот в подъезд входит дочь самого Ленина, но не того, что устроил октябрьский переворот 1917 года, а человека из более приличного общества – актера Малого театра Михаила Францевича Ленина. Юмор 1920-х: «Вы слышали, Ленин умер!», «Боже, неужели Михаил Францевич?!» «Нет, Владимир Ильич». «Слава богу, а то вы меня так напугали…» Эту блистательную реплику молва приписывает легендарной «старухе», великой актрисе Малого театра Александре Александровне Яблочкиной.По утрам во дворе появляются «чужаки». Они спрашивают у нас, детей, как пройти к профессору Липницкому, известному московскому гомеопату, или профессору Фельдману, крупнейшему в стране отоларингологу. Александра Исидоровича только что выпустили из сталинских застенков после «дела врачей». Он, 72-летний человек, прошел все круги лубянского ада, но уцелел. Однако за молодостью лет мне это еще неизвестно…А однажды во двор пришел старенький бродячий музыкант и долго наигрывал на своей скрипке чтото очень нежное и грустное. Дети слушали. Взрослые выносили ему мелочь.А еще папа мне рассказал, что в подвале одного из дворовых строений c 1930 по 1938 год находился Клуб работников искусств, гремевший по всей Москве, и ставший предтечей Центрального дома работников искусств (ЦДРИ). Ко дню открытия в феврале1930 года клуб был оформлен Кукрыниксами. В подвальчик, вход в который тогда был со стороны Старопименовского переулка, любил заглянуть Владимир Маяковский и сгонять с кемнибудь партию в бильярд, за одним столиком с ним сиживал, бывало, Михаил Яншин…Во дворе дети были приучены первыми здороваться со старшими. Я всегда вежливо раскланивался с конферансье Алексеевым, который часто прогуливался по двору. Он начал свою артистическую карьеру еще в начале ХХ века. Выглядел Алексеев настоящим джентльменом: безукоризненно одет, прямая спина, быстрый шаг, смешливые, внимательные глаза.Его остроты вошли в анналы театральной Москвы. Алексеев не избежал «карающего меча» революции и был посажен в лагерь. Там из зэков местное энкавэдэшное руководство создало концертную труппу, благо выбор был большой.И как-то раз, давая концерт для высокого начальства, Алексеев вышел на авансцену и, забывшись, обратился к залу с привычным приветствием: «Товарищи!» «Гусь свинье не товарищ», – хамски отозвался жирный полковник с голубыми петлицами, сидевший в первом ряду. «Ах, – всплеснул руками Алексеев, – в таком случае я улетаю!» и картинно, по-птичьи замахав руками, уплыл за кулисы.«Если бы вы знали, – жаловался он мне уже в середине 1980-х, – как мне тяжело жить: все мои друзья, сверстники ушли в мир иной. Я один остался… Я пережил свой век…»Всем дворовым хозяйством заведовала домоуправительница Александра Васильевна Соловьева. Это ее стараниями заливался зимой мини-каток, летом высаживались цветы – душистый табак, мальва, бархотки, детская песочница наполнялась желтым речным песком, исправно работала котельная… Мы ее побаивались из-за громкого резкого голоса, но относились с большим уважением.Во дворе у меня были друзья – кто годом младше, кто – старше. Мы любили играть в разные игры, а временами, собравшись в круг, рассказывать «страшилки» про скелеты и привидения…Кстати, наши страшилки неожиданно воплотились в 1960-х в жутковатую реальность: по двору вели газовую магистраль и наткнулись на захоронения. Они были еще в долбленых гробах с соответствующим содержимым. Когда-то здесь, оказывается, находилась церковь святого Пимена(отсюда название соседнего переулка – Старопименовский) и кладбище при ней.[b]Клад в траншее[/b]Когда, как я уже говорил, в середине 1960-х в нашем и близлежащих дворах прокладывали газовую магистраль, то рыли глубокие и широкие траншеи. Чтобы попасть в свой подъезд, людям приходилось петлять по мостикам; и все ворчали, что конца-края этому не видно... Но внезапно ворчание прекратилось, и местный люд с интересом стал вглядываться в глубины, открытые их взору. Причиной тому стал клад, который нашли рабочие, прокладывавшие траншею. В сдержанных тонах, вероятно, чтобы не привлекать внимание новых кладоискателей, одна из московских газет поведала о том, что клад состоял из «золотых изделий». Но агентство ОБС («одна баба сказала») уточнило, что, когда экскаватор зачерпнул очередной ковш, то задел какой-то проржавевший котел, из которого вывалились сахарница, молочник, заварочный чайник, еще что-то, то есть настоящий сервиз, причем с выгравированными надписями – кому он был преподнесен в дар. И все это из чистого золота! Совершенно необычный оборот эта история с кладом приобрела, когда к нам зашел приятель моей сестры, навещавший свою престарелую тетю, жившую этажом выше, и рассказал, что клад этот принадлежал его деду. Это была, очевидно, чистая правда: в гравировке на сервизе фигурировала фамилия этого человека, который был в свое время богатым московским купцом.«В семье ходили слухи о том, что дед сразу же после революции закопал где-то во дворе семейные драгоценности, но плана никому не оставил, а потом все заасфальтировали, и уже было невозможно ничего отыскать», – грустно закончил свой рассказ наш знакомый, носивший дедову фамилию. Вот такой двор, вот такая память о тех годах и людях…[b]Дмитрий СИМУКОВ[/b]