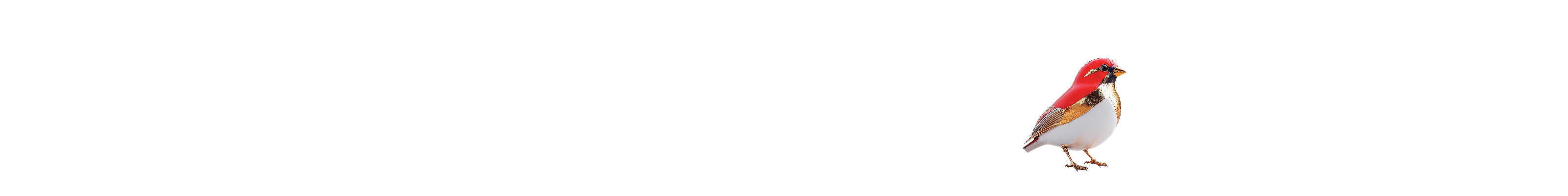Андрей Житинкин: Одна известная певица перекрасилась – и народ перестал ее узнавать
[i]Богемность одного из самых скандальных театральных режиссеров Андрея Житинкина спокойно сочетается с интеллигентностью. Прибавьте его всегдашнюю доброжелательность – и станет понятно, почему общаться с ним всегда приятно.[/i][b]– Андрей, не слышно о новых премьерах. Все привыкли, что вы ставите спектакли безостановочно![/b]– Мое беспрерывное производство – впечатление кажущееся. Но я считаю, что режиссер всегда должен быть стопроцентно готов к неожиданному взрыву. Сейчас я начинаю новый проект.[b]– Выбирая пьесу для постановки, вы смотрите, что вас зацепило, или просчитываете вероятность успеха?[/b]– Больше ориентируюсь на собственное эмоциональное восприятие. Ведь драматургия – бездна. И что именно из нее сегодня прозвучит так, что зритель будет штурмовать театр, ломать двери? Поэтому работает режиссерское чутье, такая своеобразная цензура. Вот это надо ставить сейчас, а это подождет… Я лет пять не мог поставить спектакль «Милый друг» по Мопассану, потому что у меня не было Жоржа Дюруа. Наконец, после спектакля «Мой бедный Марат», где Саша Домогаров сыграл Марата, экзистенциального советского героя, я вдруг понял, что он может быть прекрасным Дюруа. А вот «Нижинский, сумасшедший божий клоун» мне не давали поставить, хотя я был готов к нему стопроцентно. Директор театра говорил, что это никому неинтересно, что сегодняшний зритель не будет смотреть эту историю про закулисный балетный мир. Про то, как Нижинский лежит в психиатрической клинике Вены и т. д. Когда же он сказал, что вообще никто не знает ни Дягилева, ни Бакста, ни Кокто, я взорвался: «Не знают, так узнают!» И мы нашей тройкой – Житинкин, Шаров, Домогаров – пошли в другой театр и сделали спектакль, на который нельзя было попасть.[b]– Есть какой-нибудь точный критерий?[/b]– Хотите мой личный тест? Я люблю бросить пьесу на дно чемодана. Я таскаю лишний багаж. И если, распаковывая чемодан, с неожиданностью обнаруживаю, что пьеса там так и пролежала, я ее ставить не буду. Если на гастролях перед сном достал – буду ставить. А вот если я пару раз уже задумался и начал фантазировать, даже не открывая – вот это то самое![b]– И с каким спектаклем так сработало?[/b]– С «Признанием авантюриста Феликса Круля». Я кинул в чемодан не пьесу, а роман Томаса Манна, и при этом еще подумал: «Какая огромная книга!» К тому же это его незавершенная вещь, да еще нужно сочинять сценическую версию... Возил я с собой «Круля» на гастроли, возил – и он меня настолько заставлял фантазировать![b]– С вами не случалось, чтобы молодые актеры, которых вы, собственно, вывели в звезды, забывали об этом, считая свою популярность исключительно собственной заслугой?[/b]– Когда мы выпускаем какую-то работу, бываем очень близки. На репетициях я создаю очень комфортный режим – чтобы у актеров было ощущение импровизационной легкости. Высочайший кайф, когда актеру кажется, что все придумывается само. Но… Время проходит, отношения меняются.[b]– Вас это не задевает?[/b]– Конечно, я многих раскручивал. Но у молодых свой прагматизм. И никакой обиды я не испытываю. Я расстраиваюсь, когда актер, игравший у меня главную роль, потом ради денег выбегает в пятиминутном эпизоде и халтурит. Соблазнов, особенно «зеленых», для молодых много. И мне очень нравятся те артисты, для которых не все решают деньги. Обратите внимание: многие молодые звезды стали очень аккуратно выбирать, просчитывать роли: им уже важен имидж. В России еще нет агентов, которые думали бы не только о контрактах. В имидж входит и как ты выглядишь, и что говоришь, и как пахнешь, и в чем ты странен…[b]– Имидж не лишает индивидуальности?[/b]– Нет, нет. Он ее как раз подчеркивает. Одна наша известная певица, очень любимая народом, как-то взяла и перекрасилась. И сразу пошли половинные залы.[b]– Со многими ли актерами остались дружеские отношения?[/b]– В нашем цехе они иногда мешают работе. Надо оставлять за собой право делать замечание, говорить актеру резкие вещи. Стараюсь держать дистанцию. Чтобы иметь возможность подтолкнуть артиста к чему-то новому, если он внутренне сопротивляется. Нет, в нашей профессии амикошонству не место.[b]– Как вы относитесь к тому, что вас считают эпатажным, скандальным режиссером?[/b]– Спокойно. Сначала я был скандальным, потому что у меня были спектакли «Ночь Трибад», то есть лесбиянок, – про Стриндберга, «Игра в жмурики», где два вохровца коротают ночь в морге, «Калигула», которого я впервые поставил в России. Когда я сделал бенефисы Гурченко, Юрия Яковлева, Козакова, Тереховой – меня записали в модные. Взялся за позднего Уильямса – вдруг превратился в авангардного. А в пьесе «Внезапно прошлым летом» присутствует мотив каннибализма: главного героя съели подростки… Я сделал очень много такого, что боялись сделать другие режиссеры. Да что ж мы все так ленивы и нелюбопытны? Ведь поздний Уильямс – неоткрытая Атлантида. Это американский Чехов. Только фрейдизированный. Если мы будем для себя выстраивать такие табу, не заметим, как скатимся к цензуре. Самое главное, чтобы зритель имел право выбора – купить или не купить билеты.[b]– А для вас вообще есть табу?[/b]– Конечно. Хотя я считаю, что предметом театра может стать все. Но в моих спектаклях никогда не будет пропаганды насилия. Я никогда не буду ставить спектакль о совращении малолетних. Я всегда апеллирую к формуле Льва Николаевича Толстого: можно как угодно внутри спектакля нагнетать безнравственную ситуацию – главное, чтобы в конце был нравственный выход. Я не могу вечером отпускать зрителя в темный город, на окраину, в состоянии депрессии. Кстати, многие критики говорят, что Житинкин в чем-то даже морализатор: и в «Портрете Дориана Грея», и в «Милом друге», и в «Марате» (как мне кажется, недооцененном), и в «Психе», несмотря на его страшный финал.[b]– Как остаться целомудренным на сцене? Какие для вас табу здесь?[/b]– В театре своя эстетика. Если кино может позволить себе натурализм, то в театре этого в чистом виде и быть не может. Но какие-то инъекции необходимы. Ведь самое страшное – фальшь. Если со сцены льется сладкий сиропчик, никто в происходящее не верит и все понимают, что это поддавки. Мне дороже спектакли откровенные, искренние.[b]– Вы недолго пробыли главным режиссером Театра на Малой Бронной. Правда ли, что суть конфликта с дирекцией заключилась в том, что вас-таки упрекали в безнравственности и коммерциализации спектаклей?[/b]– Передернуто, как в картах… Зато теперь спектакли на Бронной часто отменяются, потому что продано всего пять билетов. Театр превратился в прокатную площадку. Актеры туда уже не заходят, делать там нечего, зарплата всего три тысячи рублей, гастролей нет. Так что почувствуйте разницу… Все это демагогия. Естественно, кому-то удобнее годами не выходить на сцену и получать зарплату. А я заставлял работать. Безнравственно играть в пустом зале для пятерых друзей. Если вы поставили за свои деньги – пожалуйста, играйте хоть в лифте, в туалете. А если вы получаете дотацию, а в зале три сестры и дядя Ваня – это преступление. Я бы даже сказал, экономическое преступление. И понятно, что актеров не медийных – то есть тех, кто не светится на телеэкранах, – раздражало, что появились такие фамилии, как Домогаров, Крюкова, Алена Яковлева и репертуар строился немножко в другую сторону.[b]– Но вы же сделали бенефис Дурову![/b]– Да, ему нечего обижаться. В спектакле к его 70-летию я специально занял всю его семью – там были заняты не только его дочь Катя и зять Володя, но и супруга Ирина Кириченко. И, кстати, Лев Константинович всегда очень краснеет, когда ему задают эти вопросы, и отводит глаза, потому что крыть-то ему нечем. Сейчас все понимают трагическую несправедливость происшедшего, но изменить уже ничего нельзя.[b]– Вы много ставите в антрепризе. Поговорим о роли материального стимула?[/b]– Гонорар по контракту намного выше, чем на стационаре, где выше штатного расписания не прыгнешь. И многие главные режиссеры или худруки работают-работают, а потом начинают ездить и ставить на стороне, потому что свои личные материальные проблемы тоже надо как-то решать. Бывает, я ставлю за малый гонорар – если это, скажем, режиссерская мечта.Иногда учитываю, что у театра не было успешных постановок, помогаю им и получаю моральное удовлетворение. Однажды мне за любые деньги предлагали поставить спектакль, который мне ставить не хотелось. Я думал-думал – и отказался. Вдохновению тоже не прикажешь. Нет его – и все.[b]– Как далеко продвинулась идея Театра Андрея Житинкина?[/b]– Пока это некий бренд. Качество. В авторском театре Андрея Житинкина первым спектаклем будут «Качели любви» Гибсона, известные у нас как «Двое на качелях». Тоже по нынешним временам некоммерческая пьеса. Там всего два актера, что не приветствуется. И это не комедия, а драма. Любовная история, но двух одиноких людей, и без хеппи-энда. Коммерчески это ужас. Но, как ни странно, я это ставлю.[b]– А когда появится театр как реально существующая организация?[/b]– Если говорить о физической стороне дела, любое здание – это два года строительства. Мне предлагают, но я не тороплюсь. Следующим моим шагом будет вложение собственных заработанных денег.[b]– В вашем послужном списке есть спектакль «Чикатило». Но я знаю и понимаю артистов, которые не хотели это играть. Копаться в такой истории ужасно…[/b]– Это момент выбора каждого человека. Но в каждом из нас сидит тот же Калигула. Только в ком-то на пять процентов, а в ком-то – на семьдесят пять – и это, наверное, Сталин, Муссолини. Достоевский же говорил: «Широкчеловек. Я бы сузил». Я иногда ставлю острые пьесы именно потому, что в них заложен необыкновенно гуманный заряд. А есть люди, которые специально идут на шоковый спектакль. Это тоже нормально. Еще Бернард Шоу говорил, что есть пьесы и неприятные. Он считал, что буржуазный зритель должен испытывать дискомфорт.[b]– Он говорил о конформистской морали, а здесь крайние проявления…[/b]– Чтобы обойти тупик, надо его обозначить. Если мы поймем, как сформировался Чикатило, – мы, быть может, предотвратим более страшные катастрофы. Представьте себе, если бы он работал на атомной станции и вдруг решил бы наказать греховное человечество…[b]– Но на Западе вы почему-то ставите Чехова.[/b]– Да, потому что на Западе я представитель русской культуры, и именно я могу расшифровать им Чехова.[b]– С таким же успехом могли бы ставить и Достоевского[/b].– Достоевский для них, как ни странно, более понятен. Он для них мастер детектива. Они следят за сюжетом – например, некто грохнул старуху топором. Начинается следствие. А все муки совести Раскольникова – для них это некоторое осложнение. На Западе вам очень точно ответят, чем заканчивается роман «Преступление и наказание». А попробуйте нашего школьника спросить... Зато он сто раз прочтет вам монологи про «тварь дрожащую» и «право имею». Это разная ментальность.[b]– А почему вы не ставите Чехова у нас?[/b]– Во-первых, столько есть еще не поставленного никем, что у меня просто сердце кровью обливается. И я понимаю, что никто, кроме меня, за это не возьмется. Во-вторых, жду своего часа. Потому что сейчас у нас несколько «Вишневых садов», «Чайки» полетели. Я хотел бы поставить Чехова, ни с кем не соревнуясь. И хорошо бы сделать это в своем театре, где я сам формирую репертуар… А пока ставлю его за границей. Но я убиваю американцев, когда начинаю рассказывать им про их родного Уильямса, – а я поставил всего позднего Уильямса, – они его даже и не читали![b]– У вас есть любимая чеховская пьеса?[/b]– Поскольку «Дядю Ваню» я уже поставил в Америке, я сейчас очень хотел бы сделать «Иванова». Это самая экзистенциальная, жесткая пьеса Чехова.[b]– Вот-вот, вы в спектаклях не жалеете ни себя, ни зрителя. А в жизни?[/b]– Что касается работы – повторюсь про дистанцию. А общаясь с людьми в жизни, я невольно наблюдаю за ними, что-то откладываю в память. Вообще-то, не совсем искренняя позиция. Режиссеры в этом смысле не совсем нормальны.[b]– Актеры еще больше[/b]…– Нет! Актеры эгоцентрики и нарциссы. Они в основном занимаются собой. Режиссеры более восприимчивы. Но я умею сопереживать. И если могу помочь, помогаю. В том числе и в долг даю друзьям.[b]– А вы способны отгородиться от негативных новостей?[/b]– Конечно. Режиссерские перегрузки в момент выпуска спектакля, предпремьерных прогонов сравнимы с перегрузками летчика-испытателя. Кажется, что все рушится, рассыпается. Что замысел абсолютно не воплощен, у актеров то понос, то золотуха… Вот в такой период я могу выключить любую негативную телепередачу.[b]– Какие человеческие проявления вас удивляют?[/b]– Совершенно невозможно привыкнуть к предательству. Предают и те, кого ты сам создавал. Например, у нас, у режиссеров, есть неписаное правило: не обсуждать работы друг друга публично. А актеры себе это позволяют. Не люблю злопамятных. А есть еще и такие, кто только и ждет момента, чтобы отомстить и в самый неожиданный момент дать тебе под дых. Таких я вообще вычеркиваю из жизни.[b]– А жадность, мелочность?[/b]– Это я могу понять. Я знаю массу скупых людей. Знаю, как режиссеры обожают обсуждать гонорары друг друга.[b]– А из хорошего?[/b]– Поскольку я человек пишущий, меня радуют люди, способные работать со словом. Люблю людей с чувством юмора, самоироничных, способных импровизировать. Многое прощаю за талант. Мне нравится, что сейчас у нас выстрелила целая обойма молодых зубастых режиссеров – наглых, скандальных.[b]– Что больше всего привлекает в женщине[/b]?– В актрисах меня поражает сочетание таланта и красоты. Это необходимое условие профессии.[b]– Красота – понятие субъективное…[/b]– Для меня это в первую очередь излучение, обаяние. Женщина не должна быть похожа на манекенщицу. Для меня красива та женщина, которая соответствует сама себе и с возрастом только хорошеет. Такова моя любимая Люся Гурченко. Я люблю женщин, которые не транжирят свою красоту, а работают над ней. Кроме того, можно назвать огромное количество некрасивых людей, обаятельных до безумия: Бельмондо, Леонов, Раневская. Бездна обаяния! А когда, например, Савелий Крамаров убрал свой недостаток, он потерял обаяние и огромный пласт ролей.[b]– Мужчина и женщина – совсем разные миры?[/b]– Абсолютно! Более того, женская логика никогда не повторяет мужскую. Если я не понимаю чего-либо в женщине, я принимаю это, списав на женскую логику. Это ваша главная тайна.