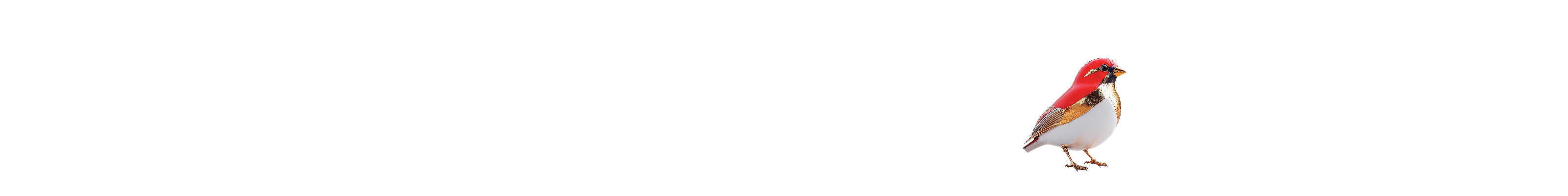Слово о настоящем человеке
[b]Признаюсь сразу: название я позаимствовал у Бориса Полевого. Только у него «Повесть…», а у меня «Слово…» Но я же не Полевой… Идея написать книгу о Николае Филипповиче родилась в ясной голове Виктора Туровцева. Счастливое совпадение: два бывших работника МГК КПСС оказались соседями в одном отделении ЦКБ – Центральной клинической больницы Медицинского центра Управления делами президента РФ. Конечно, это не та ЦКБ, в которую я попадал довольно регулярно с 1966 года: и харч похуже, и дым пожиже… На протяжении двух месяцев мы с Туровцевым встречались каждый вечер. Конечно, нам обоим было что рассказать о самих себе, об общих знакомых, друзьях, начальниках. Туровцев был одним из самых близких друзей, двух-трех, Николая Филипповича.[/b]Оба они были фронтовиками. С Великой Отечественной Иванькович вернулся без обеих рук и одного глаза – его, летчика-истребителя, сбили в самом начале войны. А теперь о настоящем человеке, который превзошел даже Маресьева. С Николаем Филипповичем Иваньковичем я познакомился в апреле 1961 года, когда Иванькович был заведующим отделом пропаганды и агитации Московского горкома партии.Он позвонил мне в редакцию «Вечерней Москвы» и попросил срочно приехать в горком. Николай Иванькович был явно взволнован.– Виталий Александрович! Спасибо за то, что так быстро приехали. Выручайте… Первому секретарю горкома доверено выступить в Большом театре с юбилейным ленинским докладом.Раньше такие доклады делали только члены Политбюро и секретари ЦК. Обстановка такая: над докладом Петра Ниловича Демичева работают уже целый месяц четыре бригады – от ЦК, Академии общественных наук, Высшей партшколы и горкома, но Демичев забраковал все четыре варианта. Вы, наверное, не знаете, что Петр Нилович очень требователен, прежде всего – к самому себе. Попробуйте вы… Я был ошарашен, но не сказал Иваньковичу, что за неделю до нашей встречи с ним был приглашен в КГБ СССР, и неизвестный мне генерал произнес такую речь: – Виталий Александрович! Мы внимательно следим за вашей работой в «Вечерней Москве».Сама газета нам не очень нравится, но ваши статьи нам нравятся. К тому же вы хорошо знаете немецкий язык и даже являетесь московским собкором берлинской вечерней газеты и диктуете свои корреспонденции на немецком языке. Исходя из всего этого, мы предлагаем вам поехать на работу в Берлин, разумеется, с женой, в газету оккупационных войск «Тэглихе Рундшау». Предлагаем вам должность ответственного секретаря – то есть фактического хозяина газеты. Что скажете? «Вечерку» я любил, работал в редакции с 1955-го. Пять лет я заведовал отделом науки, вузов и школ, потом прихватил здравоохранение и административные органы, и отдел мой стал называться довольно необычно: «науки, вузов, школ, здравоохранения и административных органов». А последний год из шести я был членом редколлегии и руководителем группы «Большая Москва». Сегодня мало кто помнит, что по очередной инициативе Хрущева была образована Большая Москва – к столице отошел ряд районов Подмосковья. Словом, неизвестному мне генералу КГБ я дал согласие и, можно сказать, сидел уже на чемоданах. А тут вдруг предложение поработать над докладом для Демичева.– Николай Филиппович, но в этих бригадах, небось, академики сидят, профессора, цековские зубры… А кто я! – Так, времени осталась неделя. Вот вам ножницы, клей, кабинет вам отведем, если что, звоните прямо мне. Действуйте и ничего не бойтесь… В бригадах действительно работали «зубры»: Георгий Шахназаров – впоследствии зам. зав.Международного отдела ЦК, помощник президента СССР М. С. Горбачева, членкор АН СССР, консультант ЦК Елизар Кусков. Олег Богомолов, ставший академиком, директором Института мировой социалистической системы, и другие – профессора Академии общественных наук при ЦК, Высшей партшколы при ЦК, лекторы ЦК и МГК КПСС и т. п.Рисковали мы оба: Иванькович и я. Если бы мне не удалось «внести достойный вклад», стали бы искать «крайнего» и примерно наказали бы. Меня согревала только мысль о том, что билеты на поезд Москва–Берлин уже были заказаны… Я засучил рукава, двое суток не выходил из горкома. Из каждого варианта доклада я взял самые удачные куски, немало дописал сам.На третий день позвонил радостный Иванькович: – Поздравляю! Петр Нилович принял ваш вариант за основу.Конечно, он сам все отредактирует, допишет, но основа-то ваша… Спасибо! Я поехал домой отсыпаться.Демичев удачно выступил в Большом театре, Хрущев и члены Политбюро тепло поздравили его с хорошим докладом. Через пару дней Иванькович позвонил мне в редакцию: – Вы знаете, как боролся за ваш вариант помощник Демичева Николай Сычев? Советую: подъезжайте к нему, поблагодарите… – Я, понятно, поехал. Коля был замечательным парнем. Он не раз заходил в «мой» кабинет, ободрял, следил за тем, чтобы меня хорошо кормили, а главное – успокаивал: – Ты никого не бойся, не обращай внимания на косые взгляды «зубров». Если шефу твой вариант понравится, он тебя защитит от любых профессоров… Николай вскоре был избран вторым секретарем крупного промышленного района – Куйбышевского, потом первым. В последствии стал первым заместителем председателя Госкино СССР, наконец, министром кинематографии РСФСР. Сейчас получает особую, «министерскую» пенсию, как и другие бывшие министры СССР и РСФСР.Приезжаю в горком.– Коля, дорогой, спасибо тебе за поддержку, если бы не ты, я бы не написал свой вариант. А теперь я хочу попрощаться – уезжаю на работу в Берлин… – Куда, куда? Ты сперва зайди к шефу, он ждет.В глубине огромного кабинета сидел за письменным столом П.Н. Демичев. Он вышел и пригласил меня за длинный стол заседаний. Разговор продолжался минут тридцать: о чем я люблю писать, что читаю, избирался ли в партбюро и т. п. В заключение улыбнулся довольно сдержанно, ни слова о моем варианте Ленинского доклада.– Предлагаю вам поработать моим помощником по идеологии… – Петр Нилович! Я никогда не был на партийной работе. И потом: у меня в кармане билеты на поезд «Москва–Берлин».– Это я знаю. Но в Берлин вы всегда успеете, а сюда – нет.Так я стал помощником первого секретаря Московского горкома партии. Коллеги-аппаратчики поглядывали на меня с подозрением: «Не по Сеньке шапка». Вот если бы меня взяли инструктором сектора печати – тогда все нормально. А помощник первого – это уровень второго секретаря крупного столичного райкома партии. Однажды зав. отделом строительства и стройматериалов спросил меня: «Это ваше поручение или Демичева?» Я не растерялся: «А вы позвоните товарищу Демичеву и спросите его!» Больше таких вопросов мне не задавали. Единственным зав.отделом горкома, который меня всегда поддерживал, давал очень полезные, умные советы, был Иванькович. Об Иваньковиче я должен сказать особо. Тот же Туровцев так описывает свою первую встречу с ним. Поступив в Финансовый институт, он, как и было положено члену партии, первым делом зашел в партбюро. В небольшой комнате были три человека. За столом сидел молодой мужчина без обеих рук и без глаза. Это был Иванькович.Подобные ему фронтовики-калеки заполняли тогда вагоны пригородных электричек. Они пели жалостные песни, рассказывали о своих страданиях. Иванькович пошел другим путем: после госпиталя поступил в Московский финансовый институт.В госпитале ему повезло. В голодной разоренной стране к каждому инвалиду были прикреплены трое медиков: врач, медсестра и санитарка-нянечка. Санитаркой была милая, добрая русская женщина. Она заботливо и самоотверженно ухаживала за Иваньковичем, полюбила его, он ответил взаимностью.Вскоре они поженились. На радость семьи родился сын Сережа, светоч, надежда и папы, и мамы, они в нем души не чаяли. Но сын нанес им страшный удар. Парень с неустойчивой психикой, он приехал из Москвы в деревню к дедушке, сказал, что с товарищем собирается на охоту, и попросил у деда двустволку. Вернувшись в Москву, он поднялся на свой этаж, потом преодолел еще один пролет, на площадке разулся, прижал ствол к шее и спустил курок большим пальцем ноги… Горю родителей не было предела. Они даже переехали из дома на Фрунзенской набережной в дом на Кропоткинской: помогло Управление делами ЦК. Но мать не смогла пережить трагедию – вскоре она скончалась. Николай остался один. Он истязал себя работой, работал с утра до ночи, по ночам читал. Хозяйство отдела пропаганды и агитации горкома было необъятным. Разветвленная система партпросвещения, агитаторы, печать, лекторская группа, приемы, делегации… Ни один важный идеологический документ, ни одна речь на партконференции, на собрании партийно-хозяйственного актива, оформление праздничных колонн на демонстрациях, вся наглядная агитация в городе, на предприятиях не миновала рук, а точнее, протеза и двух культей Николая Филипповича. Это была сладкая каторга, и она спасла заведующего отделом пропаганды и агитации от отчаяния, от мыслей о самоубийстве… Иванькович никогда не повышал голос на подчиненных, неизбежно побеждал в идеологических спорах. Оппонентов подавляла его незаурядная эрудиция, спорщики признавали превосходство его аргументов. Но он никогда не кичился своими знаниями, был чрезвычайно скромен и в то же время тверд в принципиальных вопросах. Перед начальством не робел, всегда брал ответственность на себя и смело отстаивал свою точку зрения.Известно, кто много везет, на того больше взваливают: отдел пропаганды нередко получал задания не по профилю, например, подготовить приветственные речи по случаю приезда делегации братской компартии. Помню, мне как помощнику первого иногда приходилось готовить по 7–8 вариантов двухстраничной, малого формата речи Демичева на торжественных встречах в Большом Кремлевском дворце с делегациями стран народной демократии. А каково приходилось отделу Иваньковича, когда от него требовался многостраничный обстоятельный доклад… А сколько усилий требовал каждый прилет в столицу наших героев-космонавтов… Весной 64-го Иваньковичу предложили поработать первым секретарем Свердловского райкома партии – географического центра города. Большой и Малый театры, многочисленные музеи и т. д. Николай посоветовался с Туровцевым и… отказался от лестного предложения. «Я всю жизнь занимался пропагандой и агитацией, не знаю ни промышленности, ни строительства, ни служб быта. Как же я справлюсь?!» – «Но в райкоме есть секретарь по промышленности, отдел строительства, есть райисполком...» – «Нет, не хочу оскандалиться». А прими Иванькович это предложение, стань хозяином столь заметного столичного района – его жизнь сложилась бы иначе, лучше.В конце 60-х его переводят в Гостелерадио СССР начальником одного из главных управлений, членом коллегии. Но там он долго не проработал. Его не устраивала недемократическая, интриганская, подхалимская атмосфера в Гостелерадио, а чиновников отталкивала его неподкупная прямота, принципиальность.Когда наш с Туровцевым план написать книгу о нем окончательно окреп, мы решили побеседовать с настоящим человеком: еще, чего доброго, его скромность перечеркнет наш замысел.Позвонил из больницы домой Николаю Филипповичу. Трубку взяла женщина, Елена Николаевна, которая прожила с ним последние годы: «Можно попросить Иваньковича?» – «Нет, нельзя…» – «Почему же?» – «Потому что он умер еще два месяца назад». Это был траурный для нас день: Виктор потерял близкого друга, автор – будущего героя своей книги.И все же я решил писать о нем.Последний раз мы с ним встречались в довольно убогом пансионате Гостелерадио у Ярославского шоссе, километрах в сорока от столицы. Это был подавленный, угнетенный человек: он в то время работал главным редактором журнальчика, перечислявшего теле- и радиопрограммы. И это для Иваньковича с его энергией, целеустремленностью, железной логикой… Мы часами беседовали, бродя по аллеям пансионата.Это было в эпоху Ельцина. Мы дружно осудили его политику, недостойные выкрутасы, пьяные выходки. Это были беседы единомышленников. И могу смело утверждать, что, встреться мы с ним сегодня, он бы страстно осуждал усиление национализма, монетизацию льгот, отказ народу в праве избирать губернаторов, ослабление процессов демократизации в стране, арест Ходорковского и растущее всевластие чиновников, раздувание бюрократического аппарата, бессилие государства, неспособного обеспечить безопасность своих граждан, трагедию Беслана, разгул олигархов.[b]ДОСЬЕ «ВМ» [/b][i]Бывший главный редактор нашей газеты и сейчас внимательно следит за всеми публикациями Виталий Александрович Сырокомский родился в 1929 году в Харькове. Окончил МГИМО. В 1955 году начал работать в «Вечерней Москве» зав. отделом науки, вузов и школ. В 1961–1963 гг. – помощник первого секретаря Московского горкома партии, в 1963–1966 годах – редактор «Вечерней Москвы». С 1966 по 1980 г.– первый заместитель главного редактора «Литературной газеты». С 1980 по 1984 г. – зам. главного редактора издательства «Прогресс». С 1984 по 1986 г. – член правления Всесоюзного агентства по охране авторских прав (ВААПА). С лета 1986 до конца 1990-го – зам. главного редактора «Известий» – главный редактор «Недели». Член Союза писателей Москвы, лауреат премии Ленинского комсомола (за художественную публицистику) и премии Союза журналистов СССР. Заслуженный работник культуры России. Награжден тремя орденами.[/i]