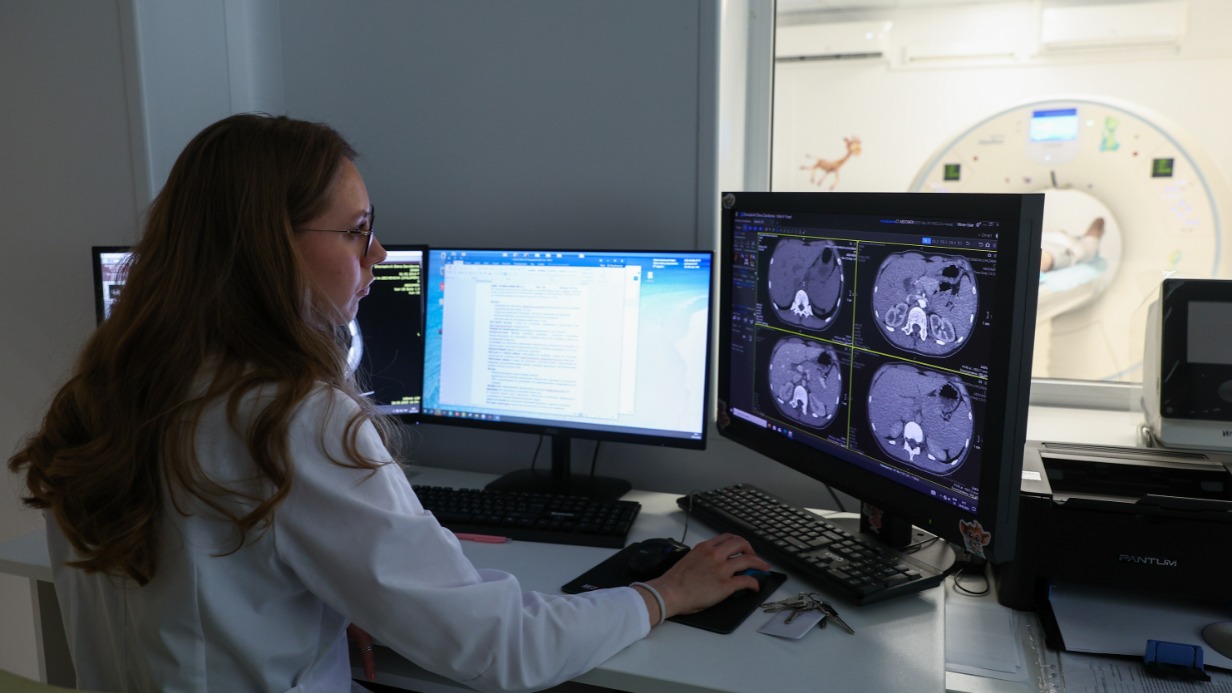Медицина будущего — рядом: что идет на смену привычным форматам лечения
Сюжет:
Эксклюзивы ВМ24 июня в столице открывается XXXV Международная конференция Академии медико-технических наук Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий. Она называется «Новые медицинские технологии» и посвящена близкому будущему медицины. Речь пойдет о новых методах клинической диагностики, современных подходах к лечению стрессозависимых расстройств, использовании аквабиотиков — словом, о том, что позволит нам быть здоровыми.
Год от года статус этой необычной конференции растет. В этом году ее участниками станут не только столичные специалисты, но и многочисленные гости, в том числе из Татарстана, Таджикистана, Воронежского университета и т.д. Незадолго до события гостем сетевого вещания «Вечерней Москвы» стал президент Академии медико-технических наук, доктор медицинских наук Андрей Жиляев, который рассказал о том, что будет происходить на конференции.
— Андрей Геннадьевич, мы все ходим лечиться, говорим о медицине, а вы перед эфиром обронили фразу, которая повергла меня в шок: «Мы движемся к бестаблеточной медицине». Как это?
— Ну, наверное, совершенно без таблеток мы уже не сможем, как, наверное, и без инъекций и много чего другого, но надо четко понимать, и это понимание к нам приходит: на протяжении последних полутора веков существовал крен в сторону развития таблеточной, фармакологической медицины. Мы достигли в этом плане многого, но при этом оставили в тени многие направления медицины, которые были опорными в деле решения проблем человека.
— У нас или везде?
— Везде. Это общая тенденция. Но это говорит о том, что у нас была возможность пойти по некоему своему пути. Так сделал Китай, который попытался совместить в медицине старое и новое, что получилось у них неплохо. Мы же пошли немного другим путем. И особенно в последние 35 лет заметно, что мы позабыли то, на чем базировались прежде наши медицинские успехи. Увы, мы отправились по пути, который был начертан идеализированным нами Западом. Он для нас стал исключительно позитивным примером. Я много ездил по разным странам, многое видел, но убедился, что наш потенциал гораздо выше.
— Но западная и заокеанская медицина опережала нас по каким-то направлениям. Был момент, когда операции, которые делал, например, кардиохирург Майкл Дебейки, умерший столетним в 2008 году, у нас делать не могли, в том числе и из-за недостаточной технической оснащенности. Но сейчас наши хирурги творят чудеса.
— Конечно, не может же быть такого, чтобы одна система состояла сплошь из достоинств, а другая — из недостатков. Было и то и другое. Но сейчас нам для движения вперед нужно, не отталкивая новизну, подтянуть все то, что было традиционно нашей сильной стороной. Увы, есть устойчивый тренд в отечественной медицине: мы себя не очень ценим и вечно сравниваем себя с западными и заокеанскими коллегами.
Например, и для меня это больная тема, мы до недавнего времени активнейшим образом выдвигали единственной формой нашей интеграции и взаимодействия с мировым медицинским сообществом вхождение в систему всевозможных рейтингов так называемой доказательной медицины. Никто не спорит — доказательства важны, на них строится наука. Но на деле критериями доказательности оказались всего лишь публикации, причем платные, в тех или иных журналах. Попал в журнал — отлично, значит, твой метод работает. Если ты там не публиковался — все, беда.
— Это грустно. Даже трудно представить, каких дров могли таким подходом наломать.
— Это более чем грустно, ведь на таких «доказательствах» строились оценки не отдельных ученых, а целых институтов и направлений.
— Вот это история… Но вернемся к нашим проблемам. Поправьте меня, если я не права, но мне всегда казалось, что наша старая советская медицина была сильна диагностикой. А сейчас, как кажется, с диагностикой у нас проблемы…
— У нас много было в медицине мощного. Возьмите систему профилактики заболеваний Семашко. В мире никто не придумал ничего лучше, это признают все. Но мы ее практически… скажем так, проигнорировали: недавний опыт с ковидом вспомните. Об этом не любят говорить, но факт: мы двадцать лет до ковидной эпидемии активно разрушали ту систему, которая была доведена в СССР до блеска — систему наших познаний в области инфекционных болезней. В ковид мы оценили нехватку инфекционистов. Я не идеализирую нашу старую систему, но там были основополагающие моменты, которые просто так отбрасывать было нельзя, поскольку технической оснащенностью это никак не заменяется. Сыпной и брюшной тиф победили обычным мытьем рук.
— Кстати, и за время ковида снизилось количество кишечных и желудочных проблем. Врачи говорят — потому, что люди вспомнили о необходимости мыть руки…
— И таких вещей в медицине «разбросано» много. Сейчас вот много говорят о том, что язва — это инфекционное заболевание, причиной которого является хеликобактер пилори (спиралевидная бактерия. — «ВМ»). Но простите, у нас академик Павлов в свое время формировал язву у собак, не задействуя хеликобактер…
— Но за него Нобелевскую премию дали!
— Да много за что ее давали… Много разного выплескивается наружу, и уровень дилетантизма зашкаливает. И у нас ведь как сейчас заведено: кто крикнул громче — тот и прав. А наши специалисты никогда громкими голосами не отличались. Сейчас лукавые поправки получены: хеликобактер ныне — «ассоциированная с язвенной болезнью инфекция». Премия премией, но хеликобактер язву не вызывает, для ее появления есть масса других причин.
Хеликобактер — бактерия, которая питается малоденатурированными белками. А язва — источник таких белков. Хеликобактер воспринимает ее как оазис и мешает ей зарасти, но не вызывает ее. Я привел этот пример к тому, что медицина движется вперед, избавляясь от заблуждений, хотя, увы, существующие школы воюют друг с другом, избегая качественных научных дискуссий.
— Мне кажется, что большая беда у нас — в отсутствии системного подхода к болезням. Может, это мне так не везло, но я мало встречала специалистов, которые способны человека воспринимать как систему и разбираться с ним именно так, системно. Чаще одно лечим, другое калечим.
— То, о чем вы говорите, всегда называлось просто: клиническое мышление. Оно было отличительной чертой советской медицинской школы, где в фаворе был тезис Гиппократа: «Лечить надо не болезнь, а человека». Этот же подход воплощался и в технологиях. Сейчас в медицине присутствует клиповое мышление. Давление повышенное? Надо его снизить. Отлично! Но есть одно важное «но». Подъем давления говорит о том, что мозгу не хватает кислорода. И если снизить давление в этот момент, то мозг ощутит нехватку в кислороде еще острее. Мы собственноручно приблизим его к хроническому состоянию кислородного голодания.
— Ой, а если там… тромбик?
— В верном направлении мыслите. Есть три процесса, которые приводят к повышению давления, — спазм, тромб и отек. И изначально можно (и нужно) дифференцированно воздействовать на каждое из этих «направлений», увидеть, где зиждется проблема и уже исходя из этого назначать лечение. Когда-то нас учили именно такому подходу, а если мы отвечали как-то иначе, нас либо обвиняли в фельдшеризме, либо в шаблонном мышлении, что считалось оскорблением. А сейчас существует шаблон медицинских документов и выпускаются «клинреки» — клинические рекомендации для врачей. По мне — это выхолащивает суть медицины…
— Но я так понимаю, что задача академии, которую вы возглавляете, как раз в том, чтобы попытаться совместить прежние и новые форматы работы?
— Да, но это была не моя заслуга, я в этот формат вошел позже. Отцы-основатели академии претендовали на создание особой площадки для развития, с позволения сказать, медицинских венчурных технологий — то есть технологий пока не подтвержденных, но вызывающих интерес, кажущихся перспективными. И этот вектор развития я поддерживать рад. В академии собираются люди с разными наработками. Можно так объяснить суть того, что мы делаем: мы готовим приемы, из которых можно сделать технологии, которые затем можно наложить на клиническое мышление и вооружить специалистов.
— Вернемся к бестаблеточной теме. Что идет на смену привычным форматам?
— Новое — это часто хорошо забытое старое. Когда я был студентом, нам внушали несколько пренебрежительное отношение к различным притиркам и мазям. Сейчас многие методики оживают, обретают второе рождение, поскольку выясняется, что их использование позволяет получать прекрасные результаты без побочных эффектов. Или возьмем физиотерапию, к которой не все относятся серьезно. У человека, вдруг кто-то не знает, есть электрическое поле, с которым не работает ни одна таблетка. А физиотерапия работает. Иной пример: болит голова. Если дать больному таблетку, она «разойдется» по организму и до зоны боли дойдет ее микрочасть. А местное, локальное терапевтическое воздействие уберет боль быстро и без воздействия на желудок. Мы развиваемся по вектору, который позволит медицине физической и химической выравняться. Это важно.
— Ничего не путаю, в академии, кажется, серьезно занимаются темой воды?
— Не путаете, и у нас это огромное направление исследований, очень интересное и перспективное. Тема колоссальная, скажу коротко — да, доказано, что, меняя структуру воды и ее свойства, мы можем добиваться впечатляющих результатов. При этом нет речи о замене ее химических свойств. Был такой известный человек — академик Иван Неумывкин. Мы долгое время были с ним «по разные стороны баррикад». Он говорил: я пользуюсь щелочной водой, и это приносит прекрасные результаты. А наши эксперименты таких результатов не давали. Только после его смерти мы поняли: чтобы его метод работал, вода должна быть газированной. Он, увы, просто упускал этот факт...
— Объясните, как это работает.
— При любом заболевании кровь становится «кислой», у нее меняются физические и химические процессы, в результате чего перестают действовать многие лекарства, образуются тромбы… Кровь (среду) надо ощелачивать — тогда лечение будет успешным.
— А когда-то знахарки говорили, что на воду надо наговаривать хорошие, добрые слова...
— Представьте, да, это доказано наукой. Был поставлен эксперимент. Возле одной порции воды думали о хорошем, возле другой — о плохом, а потом ее решили заморозить. И процесс кристаллизации ее шел по-разному. Тут знаете, какая трудность… Надо не впасть в два взаимно противоположных греха: грех догматизации и грех отрицания естественного.
— Знаю, что вы как специалист серьезно занимаетесь стрессами. Мы не чрезмерно много готовы записать ему в вину?
— Есть болезни количества и болезни качества. Появилось что-то новое — и человек заболел. Но с этим «подвидом» болезней мы как-то умеем справляться. Но сейчас во главу угла выходят болезни количества — болезни цивилизации, всякие синдромы менеджера, выгорания и так далее. И вот тут оказывается, что они — та основа, на которой развиваются многие другие заболевания.
Стресс — это общее состояние напряжения, которое позволяет организму «взбодрить» собственные защитные силы. Но когда их не хватает, стресс становится болезнью и превращается в кучу других заболеваний. По разным данным, стресс является причиной от 35 до 70–80 процентов заболеваний человека. А организм человека к одним видам стресса готов, а к другим — нет, мы так запрограммированы Создателем, кто бы он ни был. Уровень острых стрессов помогает снизить сон.
— «Утро вечера мудренее», это об этом?
— Конечно. Но стрессы хронические мы переживать не научились. Это объяснимо, ведь их причиной часто становится наша воля и решения. Пример: вы гуляете со своим питомцем, собакой или кошкой. Вдруг собака видит кошку, а кошка — собаку. Они реагируют на «оппонента» одинаково: напрягаются уши, шерсть встает дыбом, нервное состояние показывает хвост. Если посмотреть, что происходит в этот момент под шкуркой животного, вы увидите, что его мышцы вдоль позвоночника крайне напряжены. Далее что-то происходит — животные так или иначе разряжаются. А если человек относится к оппоненту с такой же «теплотой», как собака к кошке, то он тратит волевые усилия на то, чтобы, напротив, не разряжаться. А теперь вспомните устройство нашего позвоночника. Самая слабая его часть — диски. Месяц затяжного стресса и проблему с дисками определит любой рентгенолог.
— Поразительно… Так просто все.
— Просто и сложно… Но нам надо учиться культурно управлять своими ресурсами. Например, у нас есть ритуал утешения плачущего. Но минутку! Скажем, если человек отравился, никто не пытается остановить рвоту, ее иногда провоцируют специально, ведь все понимают, что так происходит очистка организма от токсинов. Мешая человеку плакать, мы мешаем ему снижать уровень стресса: вместе со слезной жидкостью мозг покидают гормоны стресса.
— Поплачь, легче будет. Вот оно как... Предки знали!
— Конечно. Вообще не вредно помнить правило трех «Ж». Человеку даны: жизнеспособность, которую он получает от природы, жизнестойкость — умение пользоваться этим, и жизнелюбие — смысл, для чего мы живем. Мы часто абсолютизируем механизмы нашей защиты, но забываем о целях. А такую программу мозг не принимает и начинает нас стрессировать. Вот почему так важно не забывать о целях — понимать не как сделать то-то или то-то, а для чего. Резюмирую кратко: если у человека есть ощущение цели, все остальное мозгом переносимо. Он даже готов не особо тревожить хозяина, многое решая самостоятельно.
— А почему стресс так помолодел? С жизнестойкостью у молодежи не очень дела обстоят?
— Тут я с вами не соглашусь, пожалуй. На эволюционном вираже молодые приобретают ту форму устойчивости, о которой нам только и мечтать. Про молодежь создано немало мифов. Они не слабее нас, адаптированы к задачам нашего мира куда лучше.
— А как же бесконечное «я устал», «выгораю»?..
— Понимаете, мы могли чувствовать то же самое, но тогда не принято было говорить об этом. И мы в целом меньше к себе прислушивались. А они прислушиваются.
— И обо всем этом вы говорите на конференции. На нее правда можно попасть любому желающему?
— Правда! Приходите. У нас давно уже появилась такая тенденция: приходит немало народу со стороны, и мы этому только рады. Всеми выставленными приборами можно воспользоваться, а из докладов наших всегда вытекает какая-то практическая составляющая. Конференция состоится в коворкинг-центре ЮВАО, это буквально двадцать метров от метро «Рязанский проспект» (4-й Вешняковский проезд, 1, корп. 1, начало в 10 утра — и до семи вечера.) Обещаю — будет много интересного.
ДОСЬЕ
Андрей Геннадьевич Жиляев — доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт, председатель правления Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий, президент Академии медико-технических наук. Автор статей, преподаватель, популяризатор медицины.
ЦИФРА
80 процентов болезней человека, полагают некоторые специалисты, спровоцированы стрессами.
Стресс — спутник современного человека. По данным опроса ВЦИОМа, 57 процентов россиян эпизодически сталкиваются со стрессом, а 26 процентов испытывают его несколько раз в месяц. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. Почему? Выясняла «Вечерняя Москва».