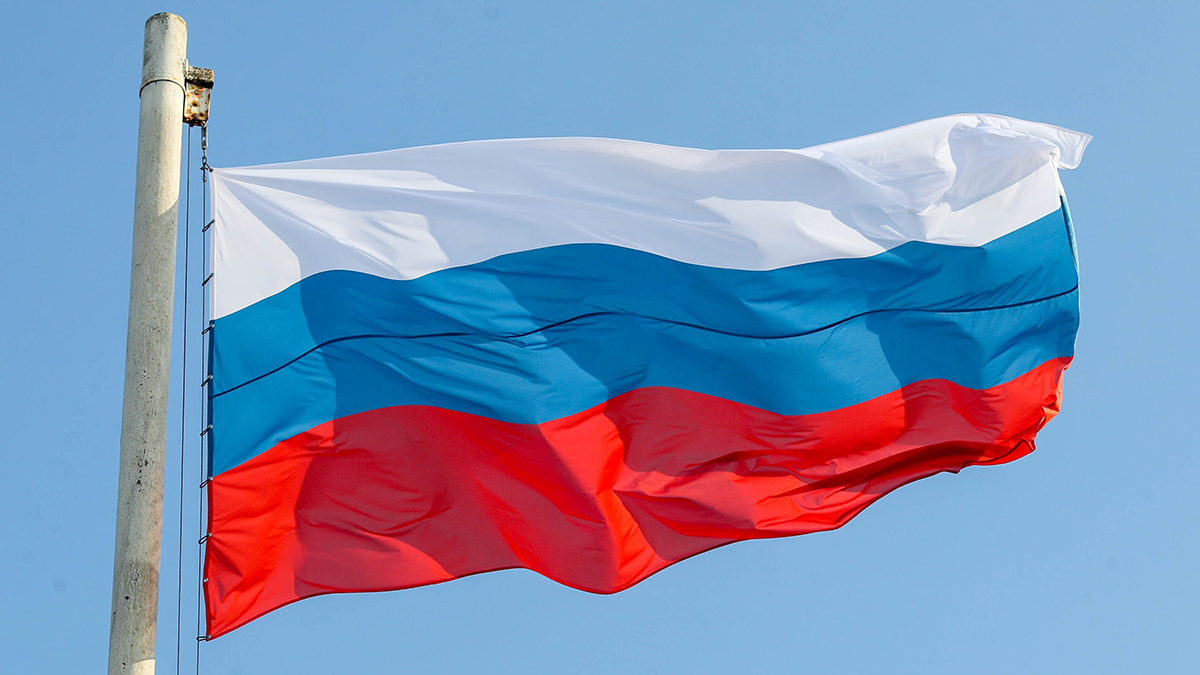Когда дождь становится воздухом
— Жил как дурак, умер как дурак. Витечка мой…
Согласитесь, не самые подходящие эпитеты для покойника.
Но мы все Витьку любили, а когда любишь, то прощаешь многое. Даже внешнюю нелепость. Все мы — и Шурочка с плоским невыразительным лицом, и две его предыдущие официальные жены — одна похожая на итальянскую актрису, другая гениальная циркачка — Витьку обожали. Похожая на актрису жена, уже экс-жена, рыдала слезами размером с жемчуг, когда уезжала в Америку — навсегда. На изготовке стояла циркачка, тоже в толпе плачущих и провожающих. Маленькая и складненькая. О, какие она крутила кульбиты на наших вечеринках! Витька говорил: «Она еще и не то умеет» — и хитро подмигивал. Все наши дети ходили в цирк каждые выходные: абонемент. Усиленный акробатическим блатом. С тех пор я ненавижу цирк, он за десять лет просто осточертел. Клоуны, канатоходцы и лошади на арене — они снятся мне в страшных горячечных снах, когда угораздит заболеть тяжелым гриппом. Особенно почему-то белые кони с дурацким украшением на голове, скачущие по кругу.
Циркачку сменила Шурочка. Домашняя, милая, с круглым невзрачным лицом, о котором я не могу написать ни одного слова. И вроде все нормально, глаза, нос, все на месте. Какого цвета глаза? Не помню. У первой жены глаза были угольно-черные, у второй — васильково-синие. У Шурочки, с которой я дружила (ну, скажем, мирно сосуществовала) много лет, я не помню ни цвет глаз, ни цвет волос. Но с ней Витька, наверное, был счастлив — по сравнению с двумя первыми. Именно Шурочка обеспечила ему чистые глаженые рубахи, кулебяки, борщи, чистоту дома и возможность спокойно работать.
Он был гениальным художником, Витька. Жаль, что в современной жизни он «не вписался» и те две жалкие персональные выставки, которые он провел, не сделали его популярным и даже просто известным. Родись он на двадцать лет раньше — он бы прошумел. На двадцать лет позже — у него был бы шанс прошуметь.
А так… Он рисовал одну неровную линию на салфетке в кафе, — и превращал салфетку в шедевр. Как любой художник, он не следил за собой (этим ведала Шурочка), он не занимался детьми от красотки и от циркачки — они выросли прекрасными людьми без витечкиного участия.
Важным для него было только — рисовать. Своя неповторимая манера. Ну и еще — выпивка. Именно поэтому от него ушла циркачка — не справилась. А Шурочка бдила, как коршун. Следила. Не позволяла переходить грань. Она, Шурочка, золотой человек. Всю себя она посвятила Витьке да его художествам — в прямом и переносном смысле этого слова.
Он был моим троюродным братом, Витька. Из тех, которые бывают самыми близкими родственниками. Надо же, полтинника не было Витьке. Умер.
И так глупо. Уехал на дачу (Шурочке по наследству досталась дача, крошечный деревянный домик на двенадцати сотках, весь заросший старыми корявыми яблонями и сиренью).
Витька полюбил его, хотя прежде презирал и все эти «дачи-клячи», деревенский быт. Но тут ему легко рисовалось. «Здесь воздух есть, понимаешь?» — говорил он мне. Да, понимаю. Воздух. Его совсем не осталось в городе — простора, неба, туч и радуг.
Шурочка должна была приехать к нему на днях. А Витька, слегка поддатый, как водится, отвлекся от своих рисунков (бывшая, та, которая похожа на актрису, готовила его выставку в Америке — и что-то как раз сдвинулось). Витька пошел на речку, искупаться. Речка — цыпленку по колено. Но окунуться можно. А когда возвращался, вдруг грянул ливень. Июльский безбрежный дождь. Я так хорошо представляю себе эту картину — маленький субтильный Витек в очках идет сквозь мокрую траву. Клевер, ромашки. И марево над лугом. А дождь все сильнее, все яростнее. Когда-то эти поля были засеяны. Сейчас — заросли разнотравьем. Идти через него трудно, да и дождина такой вдруг, откуда в небе берется столько воды?
И Витька достал мобильник — свой совсем простенький кнопочный телефон. И набрал телефон. Шурочка.
— Шуруп! Ты слышишь, Шуруп? (он так ее звал — Шуруп).
— Шуруп, тут такой дождь! Я обязательно напишу дождь. Просто — дождь, как он идет, полосками, как он становится воздухом, как он висит потом туманом над травой. Как я жалею, что ты сейчас не со мной. Ты бы поняла… Что дождь это главное. Вообще главное в жизни. Але, Шурочка!...
Я уже десятый раз слушала эту историю, и каждый раз Шурочка спрашивала: что он ей хотел сказать, когда назвал, чуть ли не впервые, Шурочкой? До этого все время только — Шуруп, да Шуршик иногда. «В эти минуты», — стыдливо говорила Шурочка.
А тут вдруг — дождь и неожиданное «Шурочка». И почти в ту же минуту удар молнии, прямо в единственную фигуру на огромном пустом пространстве. К тому же — с мобильным телефоном. Везде пишут, что мобильник притягивает молнию. Вот и притянул…
А может, каждый художник должен умереть красиво, чтобы сделать себе биографию. А зачем ему, в сущности, эта биография? Для какой-нибудь прости-господи Википедии? Жил бы себе да жил еще со своей Шурочкой. Рисовал дождь, а осенью — лиственное разноцветье.
Но как же странно. Он мог умереть десятки раз, мой невезучий в быту братец, а был убит молнией. Судьба?
— И почему именно тогда он назвал меня Шурочкой? — опять допытывалась вдова за поминальным горестным столом. Надо сказать, ей шла эта черная траурная повязка на голове. Она делала ее как-то значительнее, что ли, благороднее…
— Да выпил он просто в тот день! — сверкнула циркачка на поминках холодной синевой глаз. И я сразу представила, как она легко и грациозно прыгала когда-то с трапеции на трапецию.
Небогатое жилище, по стенам — витькины рисунки: гениальные. Сейчас это стало совершенно понятно, что гениальные. Даже без рамок. Прикнопленные к обоям по углам. Какие-то беззащитные и жалкие. Когда-нибудь за них заплатят миллионы. Естественно, мимо милой Шурочки.
Высокие, не в Витьку, дети: старший «американец» Аркадий, Аркан, как и мать, похожий на артиста, но банкир. Он оплатил похороны и взял на себя всю организацию. От циркачки — дочка Елизавета, Лизон, хорошенькая как кукла. Уже сейчас играет Суок в постановке. Глаза синие-синие, как июльское промытое небо. Породистые — и Аркан, и Суок. Витька был все-таки простачок внешне. Гениальный простачок. Как его любили женщины, всегда! Что-то в нем было такое… чего и не опишешь словами. Умение видеть красивое. Вот в этом дождевом мареве — ну что он такое увидел? Дождь и дождь. Обычный. Мокрый. Противный даже… А он сказал: дождь становится воздухом…
Обе жены постарели, хоть и прекрасно выглядят. Но время не щадит никого, особенно — женщин, которых ты помнишь роковыми красотками. Только Шурочка без изменений. Никакая была, никакая осталась. Просто милый добрый круглый блин безликого лица и на висках кудельки непонятного цвета. Шурочка раздавлена горем.
И я раздавлена. Как будто закончилась часть жизни. Как будто это я умерла, и не Витька улыбается в своих немодных очочках с портрета (в зубах зажата травинка), а я — на том портрете. Он был старшим братом, я — младшей сестрой. Кем я теперь буду? Кем? Я знаю эту манеру людей — в любом действии мнить себя главными. Но, черт побери, это был мой Витька, мой. Такого больше никогда не будет.
Я ухожу, потому что американка начинает уже деловые переговоры по поводу грядущей выставки («ведь уже проведены договоренности» — боже, откуда она набралась таких железобетонных лингвистических конструкций?), а циркачка Шурочку ненавидит, сейчас это видно невооруженным глазом. Она, циркачка, готова сделать тройной прыжок через поминальный стол, чтобы засветить Шурочке в глаз. А Витька улыбается с портрета. Очки, в зубах зажата травинка. Жил как дурак, помер как дурак. Гениальный дурак. Таких больше не делают.
Я поеду домой на такси и, пока жду звонка от водителя, Шурочка успевает мне навернуть целую сумку провианта. Как будто я еду не домой, в Чертаново, а в экспедицию. Салат оливье в баночке, кусок черничного пирога («Витечка так любил его»), чегото еще, сверху — кусочек дорогущего сыра с плесенью.
— Куда мне теперь одной столько? — виновато улыбается Шурочка. И я вдруг понимаю, почему Витька прожил с ней дольше чем с любой из предыдущих жен. И, надеюсь, был с ней счастлив. Простым человеческим счастьем.
— Шура, помнишь, когда он назвал тебя Шурочкой… ну, тогда, в дождь — помнишь, ты спрашивала почему, — он хотел тебе сказать, что любит тебя. Я его хорошо знаю. Знала… Я позвоню, когда буду дома, — говорю я, обнимаю Шурочку и целую в макушку. Надо же, она, оказывается, даже ниже меня ростом. Совсем крошка. Бедная беззащитная крошка Шурочка, ну почему ты оставила моего гениального брата одного на эти несколько дней.
*
Водитель улыбается, обнажая все свои многочисленные зубы.
— Хотите что-нибудь? Водички? — спрашивает он, и меня берет оторопь. Впервые за… много лет, скажем так, водитель такси предлагает мне воду при посадке в машину. Да просто впервые.
В авто играет классическая музыка, что тоже удивляет. И раздражает. Я еду с похорон брата, я не хочу никакой музыки вообще. Ни Шнура, ни Бетховена. Тяжело. Плохо. Но водитель сам выключает музыку, потому что он хочет говорить, а за музыкой — не слышно.
— Меня зовут Роман, — объявляет он так, будто я сейчас должна хлопнуться в обморок от счастья. — И я считаю, что мы все впитываем всю жизнь энергию. Надо впитывать исключительно позитивную энергию. Позитив — классическая музыка, чистая вода. Хорошая, позитивная энергия.
Я молчу. У меня прилив социофобии. Я думаю о Шурочке, к которой всю жизнь пренебрежительно (в душе, конечно) относилась. Надо думать о Витьке, глупо погибшем брате, а я думаю о Шурочке. Малышка Шурочка с кудельками. Витька, ты любил Шурочку, или, намучившись с «актрисулей» и «циркачкой», просто восхищался ее борщами?
— Вот вы сколько за сегодняшний день пробежали километров? — не успокаивается между тем Роман.
Я знаю такой тип людей: их вообще ничем не собьешь с курса. Если им надо говорить о позитивной энергии, они будут говорить и говорить без умолку.
— Я не знаю, — честно говорю я. — Я не бегаю специально. Только по работе. Я не испытываю мышечной радости.
— Вот! — он торжествующе поворачивается ко мне. — А я каждый день пробегаю ровно семь километров. Я бегу не спеша. Это для меня оптимальное расстояние. Потом — обязательно — душ.
Опять поворачивается ко мне.
— Следите за дорогой, — грубо отвечаю я.
Но надолго обижаться Романа не хватает. Ему надо хвалиться тем, как здорово он живет. ЗдорОво и здОрово.
— Угадайте, сколько мне лет, — спрашивает он.
— Тридцать два? — говорю я.
Роман так доволен, что отрывает обе руки от руля. Хотя я сказала абсолютно наугад. Я от слез и лицо-то его видела смутно. Тридцать два — мое любимое число. Я всегда ставлю на 32, хоть ни разу не выиграла… Но Роман рад, будто именинник.
— Мне сорок четыре! — Торжественно говорит Роман. — Сорок четыре, но никто, конечно, столько не дает. Потому что я пью воду, бегаю, я не ем мяса, я не злюсь. Слушаю классическую музыку.
— А дети у вас есть? — спрашиваю я невпопад. Просто интересно, как такой праведник умудряется жить в семье? Не злится, бегает по утрам…
— Я не женат, — объясняет Роман. — Я еще не встретил единственную, от которой захотел бы иметь детей.
— Пха! Да вы что! Во сколько же вы ее хотите встретить, единственную, да еще детей заиметь, да еще воспитать их?
— Я намерен прожить долго, — Роман опять поворачивается ко мне и смотрит уже с осуждением. — Мой дед еще жив и полон сил.
Действительно, что я, дурочка, элементарных вещей не понимаю. Он намерен дожить до ста, а я тут со своими глупостями.
Дальше едем в полной тишине. Вернее, вновь врубается классическая музыка. Это значит, что разговор окончен. Роман больше не намерен расточать на меня свои зерна мудрости. И слава богу. Но он обижен. Это заметно по его напряженной тренированной спине, по его позе. Я еду и думаю — вот Витька, ну, он чуть постарше чем Роман. На четыре года. Он любил красивых женщин, скандалил с ними, делал их сначала счастливыми, потом несчастными. Витька с белым мягким пузом, в криво сидящих очках, гениальный художник, он оставил после себя десятки полотен, сотни зарисовок, тысячи салфеток с почеркушками, растащенными друзьями и официантами. Он родил красивых породистых детей. Я помню, как он, застенчиво улыбаясь, как-то (мы шли вместе) забежал в магазин и купил сто граммов колбасы — увидел бездомную кошку на дороге. Он попросил продавщицу нарезать колбасы — для серой полосатой кошки, которая сидела на ступеньках. А потом спросил меня: не одолжишь немножко денежек? Я не рассчитал… святой мой Витька.
Он никогда бы не побежал утром семь километров — да просто потому, что жизнь его была занята другим… Он не пил чистую воду специально, по три литра, надуваясь как клоп. Зато пил водку на лавочке со случайными знакомыми. А безликая Шурочка бегала по району под дождем, разыскивая потом его.
Почему Господь создает нас всех такими разными? Вот о чем думаю я.
Приехали.
Я рассчитываюсь с Романом, и он вдруг говорит мне вслед:
— После вас придется проветривать машину! А все умничаете! Строите из себя! Машину нужно содержать в чистоте, как и тело!
Я думаю: у Романа, наверное, поплыла крыша — жарко. Чего после меня проветривать-то, я не курю, шанелями всякими пользуюсь умеренно, да и вообще… ладно.
Но пока я жду лифт (а в руке, напомню, тяжелый пакет, накрученный Шурочкой) — я действительно чувствую его. Омерзительный запах. То ли потных носков, то ли грязного тела.
Приехали… И тут я вижу его — кусочек сыра с плесенью, привезенный черноглазой американкой на поминки.
Это самый вонючий сыр из всех, что существует на Земле.
Я захожу в лифт, задыхаюсь от приступа удушья, плачу от горя, что мой гениальный Витька умер так глупо, смеюсь, представляя брезгливое лицо Романа, который хочет прожить сто лет, но жизнь его подобна существованию какого-нибудь бессмысленного червя, который ничего не оставит после себя. Ну, будет развозить клиентов до ста лет. Прекрасная перспектива.
Какие мы все разные. И как трудно уживаться вместе.