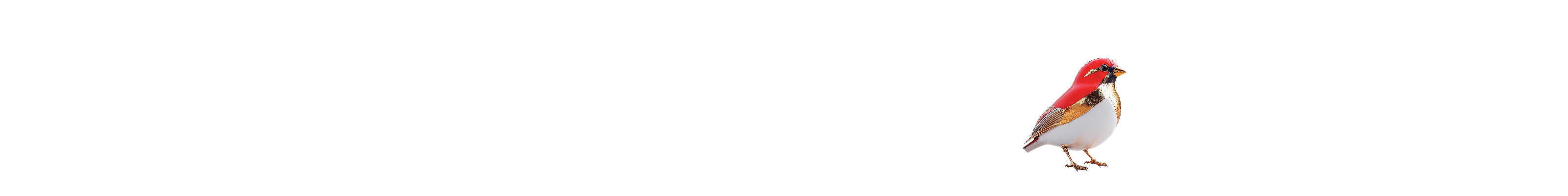ЗАСОХНИ, КОРОСТА!
[i]Знаете ли вы, что такое «документальный театр»? Современные драматурги энергично занялись тем, от чего традиционный театр за последнее десятилетие привык шарахаться, как черт от ладана, а именно документалистикой. Молодые драматурги с диктофонами и видеокамерами в руках путешествуют по притонам бомжей, госпиталям, наркологическим диспансерам, спускаются в шахты, кочуют с северными народами.[/i][b]Что такое «Вербатим» [/b]Ноу-хау «Вербатима» (документальный театр) принадлежит английскому театру «Ройял Корт», который с 1956 года упорно и планомерно отстаивает по всему миру права современной пьесы. Раскручивает новые имена, устраивает промоушн новым пьесам, которые потом ставятся по всему миру, вплоть до буржуазного Бродвея. Теперь в репертуаре «Ройял Корта» появились и русские пьесы. Первой стал «Пластилин» лауреата «Антибукера» Василия Сигарева. Это саднящая, как обнаженный нерв, история о самой страшной поре в жизни – юности (в Москве ее премьера в Центре драматургии и режиссуры в постановке Кирилла Серебренникова произвела фурор). Все особенности великорусского чернушного языка переводились на английский с тщательностью и небрезгливым научным интересом. Саша Дагдейл, в прошлом руководитель отдела культуры Британского совета в Москве, женщина с ангельской наружностью, владеющая русским в совершенстве, без конца консультировалась у коллег-драматургов, а что значит «отсоси, гнида» или как перевести «засохни, короста» — «ведь это, кажется, связано с кожными заболеваниями?» Наши драматурги-документалисты английский опыт впитывают, но и свою технику документальной драмы тоже разрабатывают. И приходят порой к поразительным выводам. Известный питерский актер и режиссер, а ныне худрук Новосибирского театра «Глобус» Александр Галибин проводил у себя в театре драматургический тренинг, куда пригласили публику. Тренинг, где люди должны были рассказывать о себе истории, спровоцировал такой взрыв откровенностей, что впору было только руками развести. Одна дама вдруг рассказала о неудавшейся попытке убийства мужа, другой джентльмен – про то, как сидел за изнасилование. Участники «вербатима» тогда поняли – в нашем обществе, где люди не могут выговориться по-настоящему, проблем с темами не будет.[b]Те, кто знает больше [/b]Модный драматург Максим Курочкин (за последнее время он написал по личному заказу Олега Меньшикова «Кухню», переписал для Владимира Мирзоева «Пигмалион» и почти убедил перманентного скептика Марка Захарова принять к постановке еще одну его пьесу) вместе с Александром Родионовым и Георгом Жено выбрал объектом своего драматургического исследования бомжей. Они открыли для себя огромный социокультурный пласт, где есть и свои интеллектуалы, читающие Элиота по-английски, и свои Тристаны и Изольды. «Женщина в любой ситуации должна оставаться женщиной», — объяснила Максиму колоритная бомжиха. А ее сожитель на следующий день излил всю мужскую горечь на коварный женский род в лице его «Нинки, крысятницы, укравшей его бутылку». Но подумав, добавил, что отмыл бы ее и жил с ней, потому что… нет ничего важнее любви.Инга Оболдина, одна из самых талантливых актрис с курса Петра Фоменко, сделала спектакль, исходя из личного жизненного опыта. Приехав в Москву из Сибири Инга и ее муж, режиссер Гарольд Стрелков, работали за комнату в интернате для душевнобольных детей – вели театральный кружок. История, сыгранная Ингой Оболдиной, — это история их ученицы-актрисы Олеси. История ребенка, попавшего в «лечебную» машину, которого легче объявить олигофреном (на олигофрена, кстати, полагаются какие-то дополнительные бюджетные средства), чем помочь подтянуться по математике. В своем спектакле, построенном в виде хеппенинга, Инга предлагала зрителям решить те тесты, которые должен решить ребенок, чтобы доказать, что он не олигофрен. Зрители не решили.Гарольд Стрелков поставил спектакль «Тува – страна, которой нет» по пьесе Ильи Фальковского, путешествовавшего по Туве. На показе спектакля на одном из семинаров по драматургии разразился страшный скандал – на сцену откуда ни возьмись вышли шаманы. Они кричали, что описанный в пьесе шаман лгал и вообще не имел права ничего говорить.А 20-летняя Мария Кузьмина отправилась еще дальше – кочевать по Ямалу с ненцами. После чего журнал «Дружба народов» опубликовал ее повесть «Месяц мертвого солнца», а студент Марка Захарова Сергей Линцов поставил с актером Алексеем Юдниковым спектакль, получивший приглашения на фестивали в Болгарию и Югославию.Екатерина Садур (дочь и коллега известной писательницы Нины Садур) написала пьесу «Цейтнот», пообщавшись с солдатами, проходящими реабилитацию в госпитале после сражений в Чечне. «Цейтнот» поставил ученик Марка Захарова немец Георг Жено. По иронии судьбы, он не имеет никакого отношения к армии. Как убежденный пацифист он получил возможность пройти альтернативную службу – проверять школьные тетради с заданиями по немецкому в подмосковном Жуковском. С тех пор Георг, в немецком прошлом ученик известного швейцарского режиссера Кристофа Марталера, осел в России, женился на русской, поступил на курс к Захарову и занялся документальным театром.Елена Морозова, одна из самых модных актрис новой формации, работает над спектаклем о душевнобольных людях «Те, кто знает больше».Драматург Екатерина Нарши занялась Интернетом. В ее пьесе «Дикий рунет» скучные клерки из офиса, сидя в одном помещении, переписываются по электронной почте, ведя в виртуальной реальности феноменально темпераментную жизнь. Ей же принадлежит идея написать пьесу о городе, который живет трагедией.Год назад Екатерина ездила в Мурманск, и в результате этой поездки появилась пьеса «Погружение». А в ней – много примечательных подробностей. Например, во время трагедии «Курска» в городе сильно подорожали услуги таксистов и путан.[b]Порыбачил – во Францию! [/b]Приверженцы документального театра своим манифестом считают пьесу «Рыбалка» уже упомянутого Ильи Фальковского, поэта и рэппера. Пятнадцать рыбаков плывут на льдине без всякой надежды на спасение. Плывут и с азартом обсуждают собственные изобретения в рыболовстве.«Рыбалку» поставил иркутчанин Иван Вырыпаев, который в 26 лет организовал свой театр «Пространство игры». Этот театр тоже участвовал в «Вербатиме» со спектаклем «Сны» о наркоманах, в которых использованы не просто подлинные истории, но истории друзей актеров, отчего спектакль звучит особенно пронзительно.Про Ивана Вырыпаева можно сказать, что он выплыл в открытое море. Дело в том, что «Рыбалку» увидел Жан-Пьер Тибода (обозреватель «Либерасьон», один из самых известных критиков Франции).Он пришел в восторг, написал в «Либерасьон» о «Рыбалке» подвальную статью, после чего иркутчанина Вырыпаева долго искали в Москве французские коллеги. Теперь мсье Вырыпаев – европейская знаменитость. Получает приглашения из Франции, Испании. А в «Ройял Корт» его пьесу поставил знаменитый Деклан Доннеллан.Документалисты не верят в режиссерские изыски и признают за режиссером только право правильно и адекватно передать их текст. В адрес традиционных театров, которые не торопятся повернуться в их сторону, они настроены более чем скептически.Они убеждены, что на Чехове да на европейских драмах театр больше не сможет развиваться. Очевидно одно – однобокость никогда не шла театру на пользу, на какой бы великий идеал не заставляли бы всех равняться. Театр хорош разноплановостью. «Художественный эффект» в конечном итоге – мера талантливости постановщиков и исполнителей, о чем бы ни шла речь – о гибели вишневого сада или о гибели «Курска».