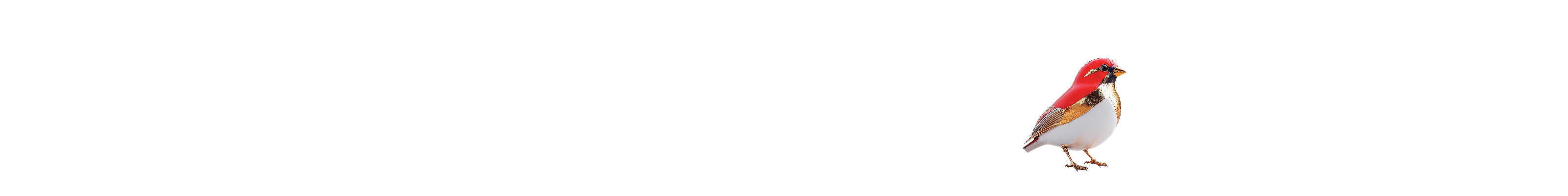ЗАГОВОР БЕЗЛИКИХ
[i]Наше настоящее стремительно становится историей. А историю, как сказал один мудрый человек, пишут, дописывают и переписывают. Вот и этапное для России событие десятилетней давности — «путч дрожащих рук» — сегодня очень уж стараются переписать. Те, кто осенью девяносто первого каялся в предательстве и слезно уверял, что больше не будет, сегодня пытаются выглядеть непонятыми борцами за идею. А молодые журналисты охотно берут интервью у забавных старичков. Впрочем, у профессии свои законы: воскресни вдруг Берия или Малюта Скуратов, их тут же прокатали бы по всем каналам Центрального телевидения… Роясь в бумагах, я наткнулся на черновик письма, которое написал в те дни — где-то между 23 и 27 августа. Тогда мне позвонил из Гетеборга известный шведский писатель Ларс Хесслинд, соавтор по книге-диалогу, и попросил рассказать, как это все происходило в Москве. Я и рассказал. Думаю, это свидетельство очевидца будет небезынтересно нашим молодым согражданам, которые сегодня стараются понять, что и как было вчера. С какими-то своими тогдашними оценками я бы сейчас не согласился — но документы лучше не править, а письмо другу в каком-то смысле тоже документ… [/i][b]Леонид ЖУХОВИЦКИЙ [/b]Дорогой Ларс! Еще в конце прошлой недели я не сомневался, что наш с тобой диалог закончен, тем более что моя рукопись была выправлена и перепечатана на машинке, оставалось только отослать ее тебе.Когда-то Сомерсет Моэм написал, что подлинная цель любой писательской работы — освобождение от замысла. Мой замысел был реализован, но, к сожалению, на сей раз блаженным ощущением свободы я наслаждался недолго. Все три дня прошли, а я пишу тебе опять. Потому что это были три дня фашистского переворота.В диалоге положено спорить.Прости, но сейчас мне не хочется спорить, не хочется привязывать это письмо к теме нашей дискуссии — я просто хочу рассказать тебе, как все происходило. В конце концов, провалившийся мятеж имел прямое отношение к судьбам миллионов людей в нашей стране, в том числе и художников.Я был за городом, работал, когда позвонила жена. Меня напугал ее голос: — Что делать? Первая мысль была о близких людях: — А что случилось? — Ты что, ничего не знаешь? — А что я должен знать? — Ты правда ничего не знаешь? Я заорал на нее, как не положено орать на женщину, даже если она твоя собственная жена. Лишь тогда Ольга крикнула в трубку: — У нас же военный переворот! Странно, но я почти не растерялся. Видно, привычка к тяжким неожиданностям у нас уже в генах: страна богата трагическим опытом, и при очередной беде люди действуют, как правило, быстро и разумно, будто пожарные в городе, где пожар через день.Я думал секунды три, не больше.— Пойди в булочную, — сказал я Ольге, — купи побольше хлеба и насуши сухарей. Окажутся какие консервы — купи.Она в свою очередь напомнила, чтобы я заправил машину. Но это я уже учел.Ни хлеба, ни бензина много не запасешь, но пусть хоть первые дни не придется об этом думать.Так что, Ларс, мой тебе совет: если в Швеции когда-нибудь произойдет военный переворот, сразу езжай на заправку, а Ивоне вели сушить сухари… Я сказал Ольге, что позвоню позднее и постараюсь приехать — если смогу. Я не исключал, что все дороги на Москву сразу же перекроют.Это был первый военный переворот в моей жизни. Хрущева тоже отстранили от власти путем заговора, но тогда все решилось гдето в верхах, в тайных дворцовых покоях, народу просто сообщили результат. Теперь же циничная акция разворачивалась на наших глазах.Я бросился к телевизору. Работала лишь одна программа — официальная. Бесцветные дикторы бесцветными голосами зачитывали бесцветное обращение новых правителей — колер переворота был грязно-серый.Я позвонил приятельнице, живущей окнами на Кутузовский проспект. Она ответила — да, танки. Вот уже несколько часов идут танки. Все к центру Москвы.О чем я думал в тот момент, расскажу позже. Сперва — что я делал. А сделал я вот что: вернулся в комнату, сел за машинку и написал еще десяток фраз в повести о любви. Наверное, это был мой профессиональный протест, своеобразный акт утверждения писательской независимости: я не хотел, чтобы подонки, неожиданно защелкнувшие наручники на запястьях у великой страны, выбили меня из рабочего ритма.Потом я вынул листок из машинки, закрыл ее и стал приводить в порядок собственные мысли, которые вспыхнули почти одновременно сразу после Ольгиного звонка.Мысли были приблизительно такие.Первая — как все просто! Дюжина партийных аппаратчиков нажала на свои тайные кнопки — и нет у страны президента, и нет свободы, и нет достоинства, и нет будущего: через год-другой эта корыстная банда, конечно же, прогорит, но и от могучей некогда страны останется только выжженная, вытоптанная, разграбленная территория.Вторая мысль была — какой же я дурак, что не отослал тебе рукопись сразу же! Хоть книга была бы — книга, в которую мы оба вложили так много труда. Теперь ты рукопись уже не получишь, а Улла не переведет: у всех заговорщиков один сценарий, первое, что они захватывают, это почта, телеграф, телефон.Третья — что я вряд ли когданибудь увижу тебя, Ивону, Мику, Рольфа, Паскаля, Гражину, Рика, Элен, Урзулу, что все мои друзья «по ту сторону» теперь отрезаны от меня навсегда: я был уверен, что государственная граница моей страны сразу же превратится в тюремную стену.И еще — безумно жалко было Горбачева. Ведь как хотел вытащить страну из векового унижения, из неволи и нищеты, как удачливо вел тяжелый грузовик по краю пропасти — и вот не вышло, не вписался в поворот.Был ли страх? Нет, не было. Не потому, что я такой смелый, а потому, что уже жил при диктатуре и точно знаю, что и при диктатуре — живут. Ну что, значит, снова придется — мимо системы. Горько, больно, тошнотно, ведь уже глотнул свободы, но сбить себя с ног не дам. Разумеется, намного трудней станет печататься — зато здорово прибавится времени, чтобы писать.Словом, Ларс, если в Швеции придет к власти хунта, не отчаивайся — и при хунте люди живут… В коридорах дома творчества (а известие о путче застало меня именно там) уже толпились люди и приглушенными голосами — как же мало надо, чтобы вернулся страх! — передавали друг другу сообщения иностранных радиостанций. Президент США озабочен. Президент Франции озабочен. Еще и еще кто-то озабочен.Тем не менее все надеются, что внешняя политика СССР останется неизменной. И договоры с другими странами будут соблюдаться.Эти новости выслушивались подавленно, иногда с робкой надеждой. А во мне, каюсь, поднималась злоба. Ведь мы-то жили не в другой стране! Мы-то жили в этой! Неужели именно нашей свободой и достоинством расплатятся лидеры Запада за свое спокойствие и сытость? Неужели через месяц-другой озабоченность уляжется? И главы демократических правительств будут заискивать перед новым «законным президентом», предателем и гангстером Янаевым? Кто-то из них уже припомнил формулу, спасающую от угрызений совести, — каждый народ сам решает, как ему жить. Но разве кто-нибудь спросил наш народ? Видимо, я был неправ в своем отношении к умным и доброжелательным лидерам мировой политики, почти наверняка не прав — но в тот момент я думал и чувствовал именно так… Потом пришлось сосредоточиться на делах практических, а их оказалось довольно много. Простояв два часа в очереди на автозаправке — среди автовладельцев умников нашлось много, — я залил полный бак бензина. Потом объехал ближайшие аптеки и купил все, что могло в ближайшие месяцы понадобиться моим старикам: я знал, что при всех передрягах сердечные, снотворные и обезболивающие исчезают так же быстро, как сахар и крупа.Во второй половине дня хунта устроила пресс-конференцию.При всем трагизме ситуации зрелище вышло анекдотическое: на эстраде сидели клоуны. Новый фюрер, временный президент Янаев, врал и путался, руки у него тряслись. Трус? Алкоголик? И то, и другое? Я всматривался в лица, пытаясь угадать, кто же из них лидер заговора. Лидера не было. Потому что не было лиц. Это был заговор нулей против единицы. Неужели эти ничтожества не понимали, что без Горбачева они просто не существуют, что их можно терпеть лишь в третьем ряду кордебалета? Возможно, и понимали — но уж очень хотелось танцевать сольные партии, пусть даже и на костях собственного народа.Как же часто мы недооцениваем честолюбие и разрушительный потенциал бездарности! Итак, их программа: чрезвычайное положение, войска на улицах. Строгая цензура, запрет всех газет, кроме партийных, запрет всех программ телевидения, кроме официальной, запрет митингов, собраний, демонстраций, забастовок, предпринимательства, валютных операций — словом, всего живого в стране. В Москве вводится должность военного коменданта. Разумеется, все это для блага народа.Кстати, эротика в искусстве тоже запрещена.Ох, Ларс, а мы с тобой написали целую книгу о любви! Мой тебе совет — впредь будь поосторожней в выборе тем. А то как бы для защиты нравственности твоих соседей во Фролунду не ввели танки… Повторяю, страха не было — были горечь, усталость и отвращение. Сколько повластвуют эти безликие? Месяц? Год? Всю мою жизнь? Если протянут хотя бы год — это все, конец. Развалят, растопчут и загадят страну так, что потом ее уже не собрать. Только на это у них и хватит способностей. К сожалению, хватит и возможностей.Ведь в их руках все — армия, милиция, КГБ, партийный аппарат, все правительственные структуры.Да, Ларс, в тот момент я не был оптимистом.На следующий день кружным путем, в объезд центральных проспектов, я добрался до дома. Настал час еще одного практического дела: мы с Ольгой собрали еще не опубликованные рукописи и стали развозить по знакомым. Только не подумай, что я прятал антиправительственные прокламации, я ведь вовсе не политик — это были две повести о любви и несколько новых статей. Зачем же были все мои хлопоты? К нашему с тобой общему сожалению. С обысками к писателям приходят, как правило, не литературные критики, поэтому на всякий случай они прихватывают все рукописи, что попадутся под руку: мол, кому надо, разберутся потом.В иных случаях это разбирательство длится десятилетиями.Мой тебе совет — не откладывай на последний момент, не жди переворота, прямо сейчас развези рукописи по друзьям, тогда в трудный час сэкономишь уйму времени и нервов… Что делается в стране или хотя бы в Москве, я не имел понятия.Обзвонил десяток знакомых. Но разговоры были осторожны и по возможности иносказательны. В расчете на третье ухо. В не запрещенных газетах была сплошь хунта, по телевидению та же хунта да допотопные фильмы, наверное, еще сталинских времен.И вдруг звонок мне: — Быстро включай радио! Работает «Эхо Москвы».Вот это новость! Маленькая свободная радиостанция пробилась в эфир. Быстро находим волну. Передают указ Ельцина, выступление вице-президента Руцкого. Впервые в эфире звучит слово «заговор».Ты не представляешь, какое это было потрясение. Значит, не вся власть у банды. Есть в Москве здание, которое не им подчинено! Но радость быстро проходит.Ведь это одно только здание. Парламент без страны. Сколько он продержится? Символ сопротивления, честь России — но что он может, когда по всей России хозяйничают они? Волну перекрывают, голос теряется за шумом. Ловим снова.Новости хуже некуда, готовится штурм. А внутри здания Парламента только обычная охрана, тридцать автоматчиков.Безвыходность и горечь. Это — все, штурма не выдержать.Тридцать автоматчиков Россию не спасут.Снова «Эхо Москвы». Микрофон у Руцкого. Он полковник, военный летчик, вице-президентом стал недавно и уж никак не дипломат. Говорит о хунте в таких выражениях, что у меня нет сомнений — если в здание ворвутся, его просто убьют.Звоню приятельнице, живущей на набережной. Недалеко от Белого дома России. Как там? Оказывается, к Парламенту собирается народ, но пока людей мало — человек полтораста. А у меня в этом здании работают пять или шесть личных друзей. Может, они и сейчас там? Ольга вцепилась в рукав: если ты, то и я. Позвонили супругам из соседнего дома, двадцатилетним щенятам, чей вид всегда автоматически поднимает мое настроение. Ребята пришли сразу. Даже не спросили, куда и зачем.Многие улицы перекрыты, на машине не проедешь, спустились в метро. Народу немного, лица равнодушны. Неужели уставший, изголодавшийся народ вот так, молча, проглотит новую диктатуру? Зато на станции, ближней к Белому дому, достаточно людно.На стенах листовки, но читать их некогда. Бросаемся к эскалатору.На улице темно, во всем районе вокруг Парламента отключен свет. Но сотни людей явно стремятся к одной цели. Вливаемся в общий поток, временами сокращая путь — я неплохо знаю переулки и дворы этой округи, когдато на стадионе поблизости играл в волейбол. Кто-то светит фонариком, кто-то подсказывает дорогу.Тут же раздают стальные прутья для баррикад.Здание Парламента освещено, в больших окнах — силуэты людей. До чего же Белый дом России не приспособлен для обороны! Как легко будет целиться по окнам из темноты — и как трудно разглядеть штурмующих в темени переулков! Что делать, это гордое здание строилось не для войны.Начинается дождь. Из нас четверых только Ольга готова к этой неожиданной напасти. Не повторяй наших ошибок, Ларс, — когда пойдешь защищать от танковой атаки Гетеборгскую ратушу, непременно захвати зонтик! Баррикады вокруг дома возвели не только быстро. Но и достаточно качественно — если на штурм пойдет пехота, завалы ее задержат. А вот от танков это не защита: стальная громадина сомнет такую баррикаду за пятнадцать минут.На что же надеяться? К счастью, вокруг Парламента не сто пятьдесят человек, и не тысяча, и не десять — уж никак не меньше пятидесяти. И еще прибывает народ. Сплюснутым кольцом охватил здание. Одна надежда, что люди не станут убивать людей. Слабая надежда. Ведь солдата, не выполнившего приказ, могут и под расстрел подвести.В толпе тесно. Лица трудноразличимы. Кое-где горят костры.Стоим, ждем. Чего? Этого никто не знает. Что будет, того и ждем.Вот объявляют в рупор, что с Юго-Запада движутся танки, и дают инструкции, как себя вести.Задача — просто стоять на их пути, призывать солдат не стрелять в народ, но ни в коем случае не оказывать физического сопротивления, не поддаваться на провокации путчистов. Пытаюсь сообразить, какое сопротивление я могу оказать танку — воображения не хватает.Снова голос в рупор: танки остановлены, солдаты отказались атаковать Парламент. Но тут же предупреждают о новой, самой реальной и жестокой опасности: к штурму готовятся особые части КГБ. Это профессионалы, умеющие все. Они могут быть в штатском, неизвестно, откуда они пойдут. Что может толпа противопоставить этой угрозе? Увы, только одно — сохранять спокойствие. И тут же очередная новость: на Садовом кольце показались танки. А ведь это совсем близко.Что чувствует человек в безоружной толпе? Очень остро ощущаешь, как тонка твоя кожа. Не только слон, но и кабан защищен куда лучше, иной раз пожалеешь, что не родился свиньей. И за что мы такие невезучие? Мой тебе совет, Ларс: как только получишь первый большой гонорар, поезжай в супермаркет и купи бронежилет. Ты даже не представляешь, насколько уверенней будешь себя чувствовать, когда в Гетеборг ворвутся автоматчики… Опять забота: какой-то бывалый парень объясняет, что делать при газовой атаке. Оказывается, не так уж все сложно — надо просто натянуть на голову пластиковый пакет! Ларс, какой же я дурак! У Ивоны на кухне целый ящик таких пакетов, она предлагала мне три или четыре, можно было выбрать самый модный, а я отказался. Когда и у вас начнется, слушайся Ивону, она дурного не посоветует. Можешь забыть дома кредитную карточку, даже водительские права — но пластиковый пакет всегда держи при себе… ...Ты знаешь, после небольшого перерыва я вновь сел за стол и вдруг почувствовал, как тяжело писать. Я никогда не стремился в диктаторы, поэтому руки у меня не дрожат — но мысли путаются.Слишком многое случилось в эти дни. Только вчера похоронили троих погибших, молодых ребят с удивительно добрыми лицами. У них была разная кровь. Русская, татарская и еврейская, но на московской мостовой эта кровь смешалась. Я не знаю, каковы похоронные обычаи в Швеции, но буду благодарен, если, прочитав письмо, ты просто зажжешь три свечи или поставишь на стол три цветка. Кто знает, может, эти три мальчика спасли не только меня с Ольгой. Но и тебя с Ивоной — ведь подонки диктаторы на трое суток уже успели выкрасть у законного президента ключ от ядерных ракет.Ты наверняка знаешь из газет, как все кончилось. Но должен признаться: даже утром двадцать первого августа мне казалось, что мятеж победит, уж слишком не равны были силы. К счастью, я ошибся: человеческая кожа оказалась надежней брони. Россия вооруженная отказалась стрелять в Россию безоружную.Итак, фашисты не прошли. Постепенно начинается нормальная жизнь, и я надеюсь хотя бы к концу недели вернуться к повести о любви. По-прежнему магазины почти пусты, впереди очень трудная зима и, скорее всего, голодная весна — зато люди вокруг улыбаются. Теперь мы с тобой снова равны в главном: мы оба живем в свободных странах. Нас не давит цензура, мы не боимся чужого уха в телефоне и ночного стука в дверь. Но есть и разница — для тебя это норма, а для меня счастье… Я все-таки задумался: а какое отношение имеет это письмо к нашей дискуссии? Как происшедшее связано с искусством? Да почти никак. Разве что забавная и приятная деталь: в столь неподходящей обстановке ко мне несколько раз подходили за автографом. Значит, среди защитников Белого дома России были и мои читатели. А один парень, который обе опаснейшие ночи провел на баррикадах, сказал мне, что эти дни в его жизни самые счастливые, потому что он совсем рядом видел писателей Евтушенко, Адамовича, Черниченко и популярнейшего эстрадного актера Хазанова.Впрочем, если бы переворот удался, его связь с искусством могла бы стать куда более тесной.Как выяснилось, организаторы путча уже заказали на одном из заводов двести пятьдесят тысяч пар наручников. Как ты понимаешь, наручники не бумажные салфетки, их можно использовать многократно. Убежден — новые диктаторы уж никак не обошли бы своим вниманием художников.Во-первых, диктатура питается человечиной и не любит, когда у нее из пасти вырывают кость. А во-вторых, у двухсот восьмидесяти миллионов моих соотечественников нет близких друзей в Швеции — кто помог бы им? Вот, мой друг, пожалуй, и все. Я дал тебе в этом письме целую кучу весьма полезных советов — от всей души желаю ни одним из них не воспользоваться…