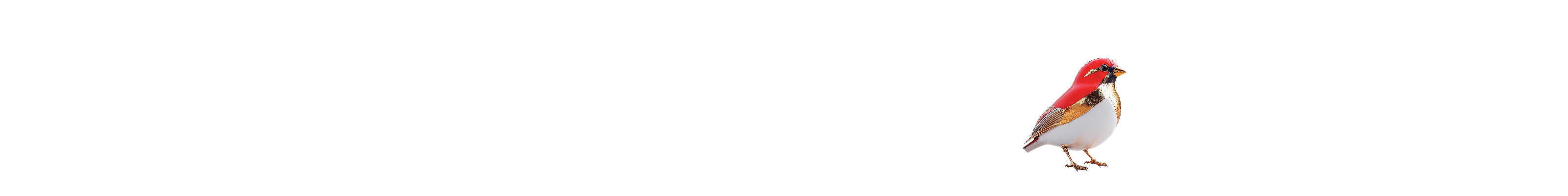Читайте Трифонова
[i]26 августа исполнилось бы 80 лет со дня рождения писателя-классика XX века Юрия Валентиновича Трифонова. Он писал о Москве, которую мы все любим. Он писал о нас – москвичах. Естественно, что его имя часто встречалось и на страницах «Вечерней Москвы». Об этом – сегодняшний рассказ.[/i][b]Памятная рецензия[/b]…О жизни и творчестве писателя Юрия Валентиновича Трифонова написаны сотни статей, около двадцати книг, десятки диссертаций – в России и за рубежом. Както в нашей беседе с Каролиной де Магд-Соэп (профессор Гентского университета, Бельгия), она тонко подметила, что на вопрос к послевоенному и более старшему поколению: «Как вы жили при советской власти?» – правомерен ответ: «Читайте Юрия Трифонова – там все сказано!» Этот совет можно обратить и к нынешним молодым москвичам. Хотите узнать о стране и о Москве ваших дедов и отцов? Читайте Трифонова.[i]…«Слепили огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся город, который я так любил, так помнил, так знал, так старался понять…»[/i] Это из «Дома на набережной».Название повести дало «историческое» имя большому серому дому рядом с Кремлем, дому, который москвичи знают, а приезжие найдут без труда – там находится кинотеатр «Ударник», а с другого торца дома – театр Эстрады. Напротив, через узкую полоску Москвы-реки, стоит возрожденный храм Христа Спасителя, который взорвали в 1931 году на глазах у шестилетнего Трифонова.В этом доме 28 августа 1925 года родился Юрий Трифонов, о чем москвичам и гостям столицы напоминает мемориальная доска со стороны театра Эстрады. Родился будущий писатель в семье, где все посвятили себя строительству «светлого коммунистического будущего» – партийной работе, военному и экономическому созиданию нового государства.Это была советская элита, именно поэтому ее и селили в правительственном доме. Сюда же за этой «элитой» в 30-е годы приезжали сотрудники НКВД, чтобы увезти на Лубянку. В 1937 году был арестован отец Трифонова (расстрелян в 1938-м), а вскоре и мать (отбыла 8летнее заключение). Позже сестра писателя – Татьяна Валентиновна Трифонова сделала запись в книге музея «Дом на набережной»: «В Доме мы с братом прожили самые счастливые и самые несчастные годы детства».А юность началась в 1942 году, когда 17-летний Трифонов пошел работать на завод авиационной промышленности. Но уже твердо решил стать писателем и в 1944-м поступил на заочное отделение Литературного института. В октябре 45-го по инициативе К. А. Федина его перевели на очное отделение. Посл еокончания Литинститута Юрий Трифонов занимался только литературным трудом.Уже через пять лет – в 1950-м – Юрий Трифонов опубликовал свой первый роман «Студенты». Позже Трифонов весьма критически относился к своему литературному первенцу. Через много лет, в 1976 году, на книге «Студенты», подаренной бельгийскому литературоведу Каролине де Магд-Соэп, он сделал надпись: «Это книга, которую Я не писал». Роман был написан по всем канонам социалистического реализма – как было принято тогда, «как учили», с четким пониманием того, о чем писать можно, а о чем нельзя. И все-таки было в романе что-то такое, что отличало его от серого, бесцветного потока тогдашней литературы.Роман понравился читателям, и одной из первых это заметила «Вечерняя Москва». Сразу же после публикации «Студентов» газета напечатала статью В. Млечина «Жили два товарища» ([b]«ВМ», 19 декабря 1950 г.[/b]). Сестра Юрия Трифонова – Татьяна Валентиновна – рассказывала мне, что с той поры у Юрия Валентиновича навсегда осталось доброе отношение к «Вечерке». Да и какому писателю-дебютанту не доставило бы и сегодня удовольствие читать такие строки: [i]«Но молодость автора предопределила, вероятно, и самое значительное достоинство произведения: превосходное знание студенчества, жизни его, чувств, мыслей… Автор, несомненно, обладает ценнейшим качеством писателя – наблюдательностью и острой художественной памятью»[/i].Роман Трифонова выдвигают на Сталинскую премию, и происходит невероятное: 25-летний вчерашний студент, написавший первую книгу, эту премию получает! (Не с легкой ли руки «Вечерки»?)[b]Персональное дело лауреата[/b]А вскоре начались события, к которым «Вечерняя Москва» опять-таки оказалась косвенно причастной. Присуждение Сталинской премии юному литератору вызвало откровенную зависть в писательской среде: да кто он такой, этот юнец, откуда взялся! Зависть подогревал бурный общественный резонанс вокруг «Студентов» – едва ли не во всех столичных и периферийных вузах шли горячие диспуты по роману, а в театре им. Ермоловой уже репетировалась пьеса Ю. Трифонова «Молодые годы», написанная на основе книги.И тогда литературные «мэтры» решили «выскочку укоротить». Благо, и повод нашелся – в биографии Трифонова «вдруг» отыскались «пятна». Молодого писателя обвинили в том, что при поступлении в Литинститут он скрыл, что является сыном «врагов народа». В анкете он написал, что отец умер в 1941 году (как в справке НКВД), а мать работает в школе (она действительно работала в школе после 8-летнего заключения в КАРЛаге). Те, кто поддерживал Трифонова в начале пути, – Федин, Паустовский, Твардовский – знали о такой «родословной» молодого писателя. Знали, но молчали. Однако каким-то образом (скорее всего по анонимному доносу кого-то из «друзей») об этом стало известно в секретариате Союза писателей. Для завистников это стало подарком. Вот что писал впоследствии сам Ю. Трифонов: [i]«…Начался новый пароксизм шумихи вокруг «Студентов», на этот раз – скандал. Теперь уж я стал действительно знаменитостью, или, говоря словами Слуцкого, – «широко известен в узких кругах». Лауреат, которого следовало исключать. Ах, вот была жалость для руководителей Союза, что не успели меня принять в члены и теперь были лишены сладости исключать! Вопрос обсуждался на секретариате. Кажется, особенно свирепствовали Бубеннов, Соболев, Панферов и Шагинян. Старая полуидиотка требовала чуть ли не отобрать у меня премию. Были бы рады это сделать, но страх перед именем – премии-то сталинские – леденил руки…»[/i]Итак, из Союза писателей исключить нельзя – лауреат Сталинской премии в нем не состоит. Что ж, надо найти другую расправу – исключить из комсомола. «Персональное дело» комсомольца Трифонова передается в Литинститут.…Москва – город большой, но в «узких кругах» все обо всем знают. О тучах, сгустившихся над головой молодого писателя, было хорошо известно во всех творческих организациях и, конечно, в партийных газетах и журналах.Знали об этом и в отделе культуры «Вечерней Москвы», где всегда были «в курсе дел» Союза писателей. Тем не менее корреспондент «Вечерки» А. Абрамов встречается в эти дни с главным режиссером театра А. М. Лобановым, присутствует на репетициях спектакля по пьесе «Молодые годы» (об этом сохранились записи зав. литературной частью театра). Встречается и с самим автором – сыном «врага народа». О чем они говорили, мы не знаем, но факт остается фактом:[b] «Вечерняя Москва»[/b] [b]14 января 1952 года [/b]сообщила о премьере спектакля, а [b]14 февраля [/b]в статье А. Абрамова «Спектакль и повесть» тепло поддержала «начинающего драматурга Юрия Трифонова». В то время такое выступление газеты Московского горкома партии дорогого стоило.[b]Писать по-старому неинтересно[/b]А первое авторское выступление Трифонова появилось в [b]«Вечерке» 25 мая 1953 года[/b]. Страна еще находилась в состоянии вселенского траура – умер Сталин. Молодой лауреат Сталинской премии, исключенный из комсомола, отвечал на многочисленные письма читателей о своих творческих планах. «Трудный путь» – так были озаглавлены его ответы. Путь был действительно трудным: никто не знал, что будет со страной после смерти вождя.[i]«Ничего не писалось, – вспоминал позже Трифонов. – Все бесконечно разговаривали. Писать по-старому было неинтересно, писать по-новому еще боялись, не умели и не знали, куда все это повернется»[/i].В [b]«Вечерней Москве»[/b] ([b]8 июня 1988 г.[/b]) в статье «Человек, поджигающий муравейник», где анализировались письма о Сталине в редакцию газеты, Г. М. Поженян вспоминал: [i]«В день похорон Сталина на крыше высокого дома на Трубной мы сидели втроем – «дети врагов народа»: Юрий Трифонов, Иосиф Дик, известный детский писатель, и я. Только Трифонов (по возрасту) не воевал, но пострадал больше нас: его отца расстреляли, а мать была репрессирована. Моя мать получила извещение о моей смерти и ушла на войну. Иосиф Дик (Дикеску), сын одного из организаторов Румынской компартии, члена Коминтерна (расстрелянного в 37-м году), был из нас троих самым неистовым[/i] (воспитывался в детском доме для детей «врагов народа», на войне был тяжело ранен. – [b]А. Ш.[/b]). [i]Он сказал: – Не сойти мне с этой крыши. Он окончательно не умер. Помяните мои слова, мы еще доживем до того, что его вынесут из Мавзолея»[/i].Это сегодня то время кажется далеким. Но тогда оно определяло судьбы миллионов граждан страны, среди которых был и молодой писатель, искавший свой «трудный путь» в жизни, в творчестве.В то время Трифонову казалось, что он может найти себя в драматургии. В 1953 году в том же театре им. Ермоловой, состоялась премьера спектакля по его пьесе о художниках «Закат успеха». [b]2 декабря «Вечерняя Москва» [/b]напечатала спокойную аналитическую рецензию В. Залесского, а до этого дважды [b](27 апреля и 7 октября[/b]) рассказывала читателям о предстоящем спектакле.Думаю, что в редакции «Вечерки» колебались, ставя в номер статью В. Залесского. Во-первых, ее спокойный тон заметно диссонировал с резко критическими рецензиями в других «больших» газетах. Во-вторых, пьеса была, мягко говоря, действительно не шедевр.В-третьих, приходило понимание, что об искусстве надо уж говорить как-то иначе. Тем не менее «Вечерка» не отхлестала молодого драматурга, а умудренный в театральном деле А. М. Лобанов, судя по всему, посоветовал Трифонову вернуться к более значимому для него делу – прозе. К слову сказать, нынешний главный режиссер «Ермоловского» В. А. Андреев играл в тех двух спектаклях Трифонова. По его словам, несмотря на то, что спектакли нельзя назвать удачей театра, работа над ними принесла актерам творческое удовлетворение.Позже Трифонов все-таки вернется к драматургии (в театре на Таганке будут поставлены пьесы по его повестям «Обмен» и «Дом на набережной»). Но первые шаги были сделаны в 1951–1953 гг., и «Вечерняя Москва» сыграла в них свою творчески-положительную роль.Интересно, что за всю свою жизнь Трифонов написал много разных рецензий – на книги, на фильмы, но вот рецензию на спектакль написал лишь одну. И та, единственная, была напечатана в [b]«Вечерней Москве» 23 июня 1961 года[/b]. Называлась она «Комическое и божественное» – Трифонов весело, с удовольствием рассказывал о спектакле «Божественная комедия» в Центральном театре кукол С. В. Образцова.А [b]17 октября 1962 года [/b]в заметке «Они живут в песках», опубликованной в «Вечерке», писатель впервые рассказал о своей новой работе – романе «Утоление жажды», о том, почему он решил написать эту книгу: [i]«Мне хотелось показать те изменения, которые произошли в нашем обществе после XX съезда КПСС»[/i]. Об этом же в рецензии на роман ([b]«Вечерняя Москва, 10 февраля 1964 г.[/b]) писал литературный критик С. Смоляницкий: «[i]метафора «утомление жажды» определяет главную внутреннюю тему романа – жажду справедливости»[/i].С тех пор жажда справедливости становится лейтмотивом творчества писателя.[b]Исчез в спорте[/b]Но я забегаю вперед. Все было непросто, все рождалось в муках. После обвального читательского успеха и популярности «Студентов» Трифонов «исчезает» из литературы. По-старому писать не хочет, по-новому – еще не знает как. И он уходит в спортивную журналистику (там, по крайней мере, можно не врать). В качестве спецкорреспондента газет и журналов он ездит на чемпионаты мира по хоккею, футболу и волейболу, на Олимпийские игры (Рим, Гренобль, Инсбрук), пишет сценарии трех документальных фильмов о спорте (на один из них – «Стартует молодость» журналисты «Вечерки» И. Бару и В. Шевцов публикуют [b]30 ноября 1957[/b] года рецензию). Наконец, по сценарию Трифонова снимается художественный фильм «Хоккеисты». А за несколько дней до кинопремьеры он рассказывает о фильме – не в спортивной, а в вечерней газете. «Большие проблемы большого спорта» – так называется его интервью с корреспондентом «Вечерней Москвы» ([b]18 декабря 1964 г.[/b]).[i]«…Спорт в современности– явление сложное и противоречивое, – говорил Трифонов. – Его как бы раздирают неумолимые, действующие в разных направлениях силы. С одной стороны, вульгарная погоня за очками, с другой – борьба за гуманистическое, идеальное: вот Сцилла и Харибда современного мирового спорта. Нам хотелось сделать фильм серьезный, отражающий сложности и противоречия спорта»[/i].На премьере в кинотеатре «Ударник» на сцене вместе с Трифоновым и съемочной группой была сборная СССР по хоккею, уезжавшая на чемпионат мира в Финляндию, о чем, конечно же, рассказала «Вечерняя Москва» ([b]27 февраля 1965 г.[/b]). В «Вечерке» же ([b]5 января 1966 г.[/b]) была опубликована большая рецензия на книгу Трифонова «Факелы на Фламинио», куда вошли написанные им в разные годы спортивные очерки и рассказы.[b]У костра истории[/b]О спорте Юрий Трифонов писал превосходно, но не это было его жизненным предназначением. Он хотел и должен был рассказать «о жизни, о людях, об эпохе». Именно так было озаглавлено интервью Льва Аннинского, которое он взял у писателя, опубликовав его [b]11 июля 1964 года в «Вечерней Москве»[/b].Трифонов рассказал – почему начал писать «Отблеск костра»: [i]«То время волнует меня. Тогда все начиналось. Тогда начинались мы… Я написал очерк об отце. Судьба – типичная в своей исключительности, невероятная в другую эпоху. Шестнадцатилетним мальчишкой вступил в партию… был выслан в Сибирь, работал там нелегально… Эти люди стояли у самого костра истории, на них отблеск… Жизнь не давала им отдыха… А дальше – тридцать седьмой: арест и расстрел… В ту ночь, когда за ним пришли, меня не разбудили. Так я и не увидел больше своего отца. Мне шел тогда двенадцатый год. Прошло много лет, прежде чем я понял по-настоящему, кем был мой отец, и прошло еще много лет, прежде чем я смог сказать об этом вслух… Я и тогда не поверил в виновность отца. Я – о его жизни. О его эпохе. Какая эпоха встает с этих архивных страничек! Во всем есть что-то чрезвычайно важное для нас сегодня… Захотелось написать о детстве, вернее, о том, как кончилось детство и началась моя жизнь…»[/i]Об этом же он писал в [b]«Вечерке» 2 октября 1965 года[/b], где в короткой статье «Черты истины» размышлял над письмами читателей после журнальной публикации «Отблеска костра». [i]«Документы, факты, конкретность, служебные слова на пожелтевших бумажках – все это производило на меня какое-то магическое действие, я оказался внутри материала, я плыл вместе с ним, в его потоке, и, что самое главное, я находился в плену времени. Ничего не нужно было придумывать. Все уже было придумано временем… В документальной прозе действуют лишь два героя: один из них – автор с его мироощущением, другой – правда. Жизненный опыт автора и опыт истории сливаются воедино…»[/i]Поэтому и в романе «Старик» автором была выстроена своеобразная система зеркал, где в исторической ретроспективе отражается ответ на мучительный, но в общем-то обыденный вопрос: «За что боролись?» Драмы комкора Мигулина, комиссара Данилова, юного Павла Летунова в огненной лаве гражданской войны завершается «мышиной возней» их потомков за дачный домик – две комнаты и веранду… Тогда зачем было столько жертв в прошлом? В прозе Трифонова на «скамье подсудимых» – не какие-то определенные лица, а определенный образ жизни… Именно это обобщение и привлекло ведущие московские театры к «Старику». Об этом говорил в интервью [b]«Вечерней Москве»[/b] ([b]19 сентября, 1986 г[/b]. ) главный режиссер театра им. Вл. Маяковского А. А. Гончаров, рассказавший о том, что его театр планирует выпустить спектакль по пьесе Трифонова к 70-летию Октября. Это было уже после смерти писателя.К сожалению, попытки наших театральных мэтров – А. А. Гончарова, О. Н. Ефремова (во МХАТе), Ю. П. Любимова (в театре на Таганке) – поставить «Старика» не увенчались успехом. Им просто запретили работать над спектаклями… Партийная цензура, судя по всему, понимала, что за внешне неприметным разговором о дачных проблемах, о мучениях памятью какого-то старика, одного из выживших ветеранов гражданской войны, встают нравственные проблемы, связанные с прошлой и нынешней историей страны. А это уж совсем ни к чему, несмотря на начавшуюся перестройку… Ведь речь-то в спектакле пойдет – как и в романе – о репрессивной политике комиссаров, приведшей страну к нравственной пустоте и духовному обнищанию.Такова и проза Трифонова – своеобразная панорама, летопись жизни страны во всем многообразии. Об этом говорят сами названия трифоновских произведений.Здесь и студенческое нетерпение изменений в жизни, и утоление жажды справедливости в ней; отблеск костра революции на наших судьбах и душах; нетерпение борцов за народную волю; дом на набережной как символ взлета и падения людей и идей, которыми они жили; исчезновение миллионов людей в дьявольской бездне государственного произвола; правда и трагедия старика, обожженного огнем того самого костра, который он с яростью разжигал в «слепящей тьме»; обмен нравственных ценностей на компромиссы (которыми полна жизнь каждого человека); долгое прощание, подведение предварительных итогов и возможность желанной другой жизни наряду с пониманием своего времени и места в ней, где не исключена реальность ощущения опрокинутого дома…Читайте Юрия Трифонова![b]Александр ШИТОВ,доктор филологических наук[/b]