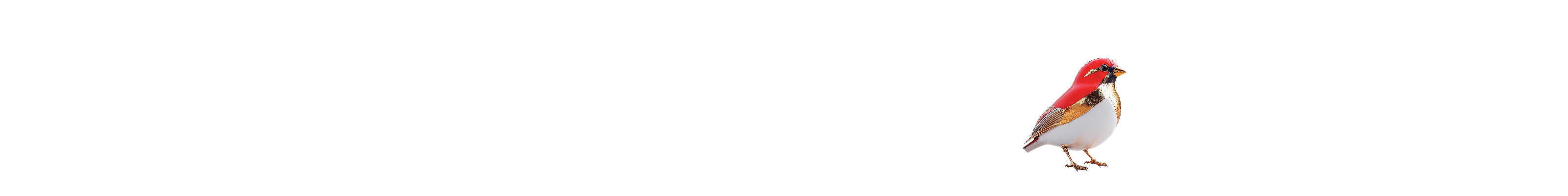Я и ангел, я и черт
[b]Его родили «назло фашистам» – вместо погибшего в Отечественную войну старшего брата с таким же именем. И как потом выяснилось – во славу русского театра. Он живет за брата, играет и ставит за отца, чьи экспликации одобрял сам Мейерхольд. Без имени Авангарда Леонтьева невозможно представить «Современник», где он играл не одно десятилетие, «Табакерку», у истоков которой он стоял, Школу-студию МХАТ, где он вырастил массу талантливых учеников, не уставая признавать в них победителей, Центр им. Мейерхольда, где родился гениальный «Нумер в гостинице города NN», объездивший полмира за десять лет, теперь МХТ. «Когда он рядом, я знаю, что у меня прикрыта спина», – эти слова Олега Табакова об Авангарде Леонтьеве мог бы сказать каждый, кто имел с ним дело.[/b][b]– Авангард Николаевич, несколько лет назад вы перешли в МХТ из «Современника». Оно того стоило?[/b]– Я довольно счастливый человек – не жалею о своих жизненных шагах. Из «Современника» ушел по соображениям не идейного, а скорее житейского толка. В «Современнике» за 36 лет работы было столько хорошего! Но жизнь меняется. Стоит сказать (это я подвожу теоретическую базу под свой уход), что эти театры – ближайшие родственники. Просто Олег Ефремов, создав «Современник», смог наиболее точно воплотить идеи Художественного театра, которые на тот момент сам МХАТ не мог воплотить.[b]– А сегодня удается воплотить эти идеи?[/b]– Сегодня и «Современнику», и нынешнему МХТ еще труднее их воплощать. Потому что идеи не новы и периодически подвергаются ревизии. А еще потому, что практическая жизнь ведет себя по отношению к этим идеям как дитя малое, – шалит, резвится. Неофиты думают, что с них жизнь началась, и не ведают, что отсутствие знания не освобождает от ответственности.[b]– В МХТ вы как раз работаете у «молодых режиссеров» – Машков, Чусова, Серебренников. Как вам это поколение?[/b]– Машков работает нашим старым казачьим мхатовским способом – проигрывает внутри себя все роли и предлагает свою партитуру артистам, даже такому прекрасному и самодостаточному, как Евгений Миронов, который может сам, в отличие от меня, справиться без помощи режиссера с ролью.В связи с ситуацией вокруг Театра наций пресса стала относиться к Миронову как к зеленому новичку. Это ошибка. Несмотря на наивность и простодушие, Евгений очень ответственен и от природы наделен режиссерскими способностями, которые, правда, использовал пока что применительно к себе самому и студентам.С Ниной Чусовой мне было особенно трудно. Я, как и все мы, подпал под ее обаяние и не заметил, что в рисунке моей роли маловато оснований для того, чтобы стать убедительным. Когда опомнился, уже было поздно. А роль резонерская – только Эфросу и Богатыреву удалось справиться с ней совершенно победительно, доведя резонерство до идиотизма, до гиперболы. Мольер дал моему герою роскошный текст – хороший стих, грандиозные метафоры, подробности. Но об исполнителе он не очень позаботился, и я эти трудности преодолеть не сумел.А вообще я приветствую молодых режиссеров – а как же без них?! Ну, наломают дров, но как важен этот живой, сегодняшний процесс. Правда, худруки должны радикальнее вмешиваться в создание спектаклей.[b]– У вас потрясающий список учеников: Миронов, Машков, Газаров, Майорова, Апексимова. Кто из них был самым «трудным» и оттого самым дорогим?[/b]– А я что-то не припомню, чтобы с кем-то из них было легко. Помню, Лена Майорова все собиралась бросать – страдала, не верила в себя, очень трудно было вернуть ее в рабочее состояние. Миронов – идеальный студент? Зато у него была плохая дикция, которую он исправил только благодаря своему упорству – иначе не видать бы ему героев. Он был очень хрупкий, субтильный и, чтобы развить в себе мужественность, ходил с Володей Машковым заниматься штангой (и, кажется, надорвался, подняв такую же штангу, что и Вова).А вообще ради роли он готов сделать все, что нужно, и даже больше. Получив роль у Хотиненко, он столько сделал, чтобы понять мусульманство, что я не удивился, если бы он в итоге принял эту религию – при его бескомпромиссном, фанатичном, бесстрашном погружении в роль. Миронов в этом смысле идеальный – ради роли откажется от личной жизни, развлечений, друзей, других ролей. Телефон выключит. В этом смысле он очень похож на Константина Райкина. Ему тоже в период работы над ролью не дозвонишься, не достучишься. Эти два актера как никто заслуживают успеха, они для роли делают ВСЕ и абсолютно перед ней чисты.[b]– Вы переиграли столько инфернальных ролей, вплоть до «Черта с направлением», а в жизни производите впечатление очень чистого человека. Откуда «материал» познаете?[/b]– Во всех ролях я опираюсь на себя, свой личностный материал – так меня учили. У меня достаточно своих черт, чтобы сыграть и ангела, и черта. Не знаю, чего больше.[b]– А не страшно это в себе открывать?[/b]– Не страшно. В первой половине жизни я совершенно не знал, что такое зависть, и если бы мне надо было играть Сальери, не знал бы, с чего начать. А в последние годы стал замечать, что иногда злюсь, глядя на других, подмечаю их недостатки. И вдруг поймал себя на том, что это от зависти. Пытаюсь глушить в себе это несимпатичное мне самому чувство. Но… ежемесячно читаю расписание мероприятий в Доме кино, особенно информацию о премьерах фильмов, которые у меня самого случаются раз в несколько лет. Вычитываю с каким-то гипертрофированным интересом списки актеров и думаю – а кто же играет «мои», подходящие моей индивидуальности роли. Правда, отношусь доброжелательно к этим людям. Вот что это такое, а?[b]– Вы можете понять ваших родителей, которые ради друг друга отказались от творчества. Или они себя в чем-то обокрали?[/b]– Это трудный вопрос. В творчестве они себя, может, и обделили. Мама не разрешила отцу стать режиссером и актером. Заревновала его не к сцене – к потенциальным партнершам. И правильно, кстати, сделала. В партнерш действительно влюбляешься, так что мама интуитивно знала, против чего воюет. И, в свою очередь, папа забрал ее из учреждения, где она работала: не хотел, чтобы на нее заглядывались.Но они были очень счастливы в браке. Они так любили друг друга, что им ничего больше не нужно было. Папа никогда много не зарабатывал. Жили на картошке с селедочкой, колбаска считалась уже деликатесом. Растили детей и были счастливы.[b]– Вы живете за вашего старшего брата, погибшего в Отечественную войну, носите его имя. Вы ощущаете эту связь – «то, что было не со мной, помню»?[/b]– Я живу и живу. Иногда ловлю себя на том, что живу в его квартире, которой у него никогда не было. Ее дали моим родителям как семье погибшего, а до этого они жили в коммуналке.А вот недавно мой друг решил сделать мне подарок – поездку в Мюнхенскую пинакотеку. Я очень люблю живопись, учусь разбираться, могу определить эпоху, стилистическое направление, иногда автора.Но для посещения пинакотеки надо было оформляться в Германию туристом. Я же привык ездить с театрами – один только мой Чичиков прокатил меня по всему миру, и не на тройке, а на боингах. Немцы же в этом году ужесточили правила оформления виз. И я должен был принести им справку о моем имуществе (квартира и машина – очень мало по немецким понятиям) и доходах (3900 рублей – бюджетная часть моей зарплаты, вообще смешно).И так мне стало неприятно. Да не понесу, думаю, справку о квартире брата, которого они убили, и о зарплате в 120 долларов. И на личное собеседование не пойду, и в Мюнхен не поеду. Я столько раз бывал в Германии – у них все данные на меня есть. Чего уж нам, старым европейцам, друг перед другом выпендриваться. У нас цари были почти чистокровные немцы. И решил я возомнить о себе не пойми что, никуда не поехал, а сходил в Русский музей, вспомнил полунемца Павла I, которого я играл в «Адъютантах любви». Историю нашу страшную вспомнил. И подумал, как я все-таки немцев люблю, хоть они и брата моего убили.[b]– Что вы почувствовали, когда второй режиссер подряд предложил вам сыграть Бобчинского?[/b]– Почувствовал, что подхожу к этой роли, что приятно, – я люблю подходить к гоголевским ролям. Когда я по молодости затосковал от отсутствия больших ролей, моя учительница по студии художественного слова Анна Гавриловна Бошек успокоила меня, что мои роли еще впереди – Мармеладов, Хлестаков, Снегирев (маленький человек, то есть). Правда, Чичикова даже она мне не пророчила. Что-то сбылось из ее предсказаний, что-то нет. Но когда Сергей Газаров предложил мне сыграть в одном лице Бобчинского и Добчинского (явная шизофрения с раздвоением сознания), я поначалу запротестовал, боясь мести Гоголя, который написал двоих. Но Сергей сыграл мне маленький кусочек – и так талантливо, что я увлекся. И с удовольствием играл обоих Петров Иванычей в «одном флаконе».[b]– Гоголь не звонил?[/b]– Гоголь нас простил. Но когда Валерий Фокин снял с репертуара «Нумер в гостинице города NN», игравшийся десять лет, на следующий день накрылся банк – сосед Центра им. Мейерхольда по лестничной площадке, где лежали и деньги Центра. А вслед за ним еще несколько банков. Правда, Николай Васильевич вовремя вспомнил, что деньги на «Нумер» дал Березовский и остановил свою тотальную месть – полного финансового краха не случилось.[b]– На какой спектакль вы сводили бы своего гостя, чтобы доказать ему состоятельность русского театра?[/b]– На «Изображая жертву» – очень удачное воплощение современной жизни: пришел на спектакль и узнал сегодняшнюю жизнь. Как, кстати, и на «Пластилине» того же Серебренникова – прекрасной метафоре страшной жизни. Мне было страшно на этом спектакле просто за себя! Я нервами почувствовал, как сжались от сострадания соседи слева – счастливые молодожены, и соседка справа – весь зал. Узнали жизнь и вздрогнули.Хорошая актерская игра всегда заставляет вздрогнуть. Когда я вижу, как Андрюша Смоляков, играя того, кого он никогда в жизни не знал и не узнает, плачет настоящими слезами, я понимаю, что он пропустил роль через себя.А «женовачи» – какая прелесть! Когда неопытные еще ребята, не интонируя и не наигрывая, как мы, опытные, просто честно и уважительно подают великие тексты. И это производит впечатление бомбы, и ты буквально чувствуешь оказанную тебе помощь. Для этого и существует искусство. Нет, много у нас хороших спектаклей – только театральным критикам кажется, что мало.