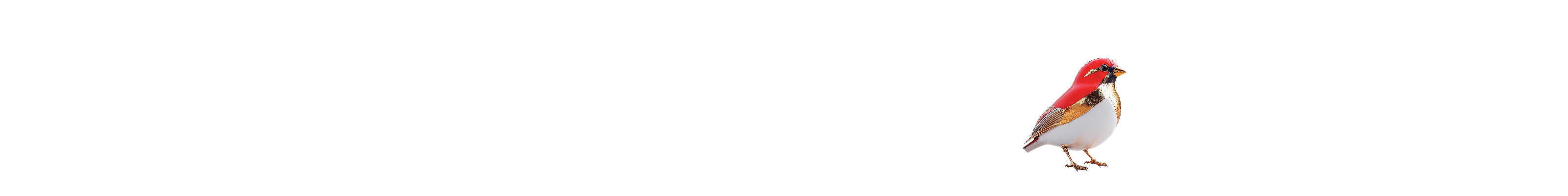Московский международный дом музыки отметит пятилетие
14 декабря отмечает свое пятилетие Московский международный дом музыки, возглавляемый Владимиром Спиваковым. В канун этого события «Вечерка» поинтересовалась у маэстро, какое значение он придает этой дате. – Я хочу создать такой институт, как, например, Венская филармония. Однажды меня привела туда, в свою ложу, пожилая графиня и сказала: «Владимир, вот в этом самом кресле я сидела еще вместе со своей прабабушкой. Я был поражен этой связью поколений и той данью традициям, которые там существуют. Мне хотелось бы создать в Московском международном доме музыки именно такую атмосферу, которая останется и после меня. Чтобы нашими традициями жили ребята, посещающие сегодня детские абонементы. Со временем они уже сами будут водить сюда своих детей. К тому же раз в год (обычно это происходит в мае) здесь проводится фестиваль «Москва встречает друзей», на который съезжается более 1000 детей из бывших советских республик и из стран дальнего зарубежья. Они вместе творят искусство, общаются, обедают, играют друг с другом и говорят на одном-единственном языке – русском. Таким образом нам удается сохранять культурное пространство. И дети уезжают отсюда, чувствуя, что их ждут и любят, что они нужны здесь. – А что будет происходить в этот юбилейный вечер в Доме музыки? – В праздничном гала-концерте, который состоится в пятницу, примут участие только звезды первой величины. Например, выдающийся английский органист Саймон Престон, пианист Денис Мацуев, скрипачка Камио Маюко, певицы Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова и Роберта Гамбарини, братья Ивановы, флейтист Артем Науменко. И, конечно же, «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России, которыми я буду дирижировать. – Почему одни талантливые музыканты становятся дирижерами, а другие – нет? – Ну, во-первых, этому нужно учиться. Во-вторых, в каком-то смысле надо родиться дирижером. Когда-то наш гениальный педагог, учитель Рихтера и Гилельса Генрих Густавович Нейгауз писал о том, что в каждом хорошем пианисте должен сидеть дирижер. Просто у одних это проявляется в большей степени, у других – в меньшей. Конечно, очень многое зависит и от школы, и от характера, от умения общаться с людьми. Потому что концерт никогда не будет хорошим, если есть желание только с одной стороны – должно быть обоюдное желание дирижера и музыкантов. Не зря же Марина Цветаева сказала однажды изумительную фразу: «Оркестр – это единство множества». – Какими профессиональными и человеческими качествами нужно обладать, чтобы быть одновременно и солистом, и художественным руководителем, и главным дирижером оркестров? – Думаю, что главное качество профессионала – это все-таки любить людей и свою работу. У дирижера должна быть сильная воля и определенный магнетизм, чтобы увлечь людей, заразить их творческими идеями – желательно новыми. Потому что вокруг нас очень много рутины – как в жизни, так и в искусстве. – Каждый музыкант – индивидуальность, а оркестр должен быть все-таки единой командой. Нет ли здесь противоречия? – У Шекспира написано: «Смотреть – еще не значит видеть». Вот и слушать – совсем не значит, слышать. А вопрос как раз и заключается в том, чтобы услышать соседа, коллегу. – Оркестр – это единый организм, в центре которого, словно сердце, находится дирижер. А музыкантов можно сравнить с кровеносными сосудами. Дирижер, как доктор, должен слышать все и предвосхищать многие вещи, именно ориентируясь на индивидуальность каждого. – Но начиналось-то все со скрипки. В руках у Паганини она плакала. Существует ли для вас такое понятие, как душа инструмента? И можно ли через эту душу почувствовать историю, культуру народа, страны, где она была создана? – Конечно. Впервые я взял в руки инструмент в семь лет. Уже не помню – «четвертушка» это была или «половинка». А сейчас играю на скрипке Антонио Страдивари, которую мне дали в пожизненное пользование. И столько, сколько существует «Страдивари» (уже триста лет), люди никак не могут повториться – изготовить такую же скрипку, и это при том что мы давно полетели в космос, занимаемся нанотехнологиями и достигли колоссального технического прогресса. – Сейчас уже вроде разгадали этот древний секрет, заключающийся в том, что древесину вымачивали в соляном растворе… – Каждый раз ученые утверждают, что раскрыли эту тайну, но никак не могут создать такой же шедевр. Поэтому эти произведения искусства и остаются по сей день раритетами. – Что вы чувствуете, когда берете инструмент в руки? – Что это инструмент с характером, который не прощает, если на нем мало играешь, работаешь. И отвечает только тогда, когда по-настоящему серьезно готовишься к концерту. Скрипка чувствует твою энергию, тепло рук, вибрацию, различные эмоциональные состояния души. И если ты не лжешь и не фальшивишь, то она отзывается поистине божественным звуком, в котором радость и боль, счастье и трагедия, сострадание и восхищение… – Вы хотите сказать, что скрипка живая?.. – Безусловно. Есть масса инструментов, которые просто погибают, лежа в банковских сейфах. Я знаю, например, что на моей скрипке Страдивари играл Гржемале – человек, который когда-то давно преподавал в Московской консерватории. После этого она долгое время лежала в банке без движения, то есть, по сути, без жизни. А ведь это богатейший в музыкальном плане инструмент – со своими эмоциями и уникальным звучанием. В скрипке, особенно такой, на которой я имею счастье играть, есть нечто не просто живое, а волшебное, можно даже сказать – мистическое. Ведь она, по сути, – сама история. Я бы сравнил ее со старинной античной скульптурой, только ожившей. – В свое время вы два года провели в интернате Центральной музыкальной школы. Что вспоминается из того времени? Не голодали? – Кормили нас, конечно, плохо – всего на 56 копеек в день. Но я с большой теплотой вспоминаю интернат и общежитие при нем. Дружба между учащимися была настоящая, бескорыстная – в детстве ведь нет того, что приобретается с годами: ни зависти, ни ревности. А есть только детский максимализм. Именно поэтому мы должны чаще общаться с детьми – учиться у них добру, непосредственности и чистоте души. – Много лет спустя вы подарили своей альма-матер рояль. Это был внезапный порыв или детская мечта: вот стану взрослым – обязательно куплю рояль или конфет всем воспитанникам? – То было время, когда частник в принципе не мог купить рояль. И мне пришлось неделю ждать, пока министр культуры не подписал разрешение на покупку инструмента, который я подарил на 20-летие своего интерната. Но после того, как Демичев все-таки подписал документы, мы с ним даже подружились. Я твердо убежден в том, что именно возможность отдавать и делиться, выйдя из круга своего «я», и приносит человеку ощущение настоящего счастья. И мне действительно очень часто удается испытывать это ощущение, особенно когда я вижу, как горят глаза детей, которые получают из моих рук музыкальные инструменты. Они тоже счастливы, улыбаются. А дети, которые никогда не выезжают на снег и вдруг получают возможность прокатиться в инвалидной коляске по тротуару… Все это дорогого стоит. – Для того чтобы делиться, необходимо и тратиться – эмоционально, душевно… Это требует больших усилий? – Прежде всего необходимо желание тратиться. Но, поверьте, это всегда восполняется. Для меня благотворительность – это действительно жизненная необходимость. Такая же, как потребность дышать, любить, жить, наконец… Она в крови. У нас в субботу, например, выступали детишки. Совершенно замечательно играла на виолончели девочка, Настя Кобекина, которая получила премию еще на конкурсе «Щелкунчик». Наш благотворительный фонд подарил ей хорошую виолончель. Миша Меренк играл на кларнете, врученном нами. Ане Савкиной купили скрипку в Париже. Сережа Виноведов из Смоленска играл на жутком гобое, и мы подарили ему французский инструмент. – Но когда-то ведь вам и самому знаменитый Леонардо Бернстайн подарил свою дирижерскую палочку? – Да, это очень интересная история. Дело в том, что некоторое время я был «невыездным». В частности, не мог выехать в Зальцбург на выступление в честь празднования дня рождения Моцарта. Это было морально очень тяжело. Тем более что анкета у меня была в полном порядке: отец – фронтовик (получив контузию, работал в Башкирии старшим мастером на заводе по производству авиационных двигателей для бомбардировщиков), мама пережила блокаду Ленинграда. Так что мне было особенно обидно понимать то, что я оказался как бы вне мирового музыкального сообщества. Леонардо Бернстайн, конечно, поспособствовал тому, чтобы меня выпустили (он был дружен с бундес-канслером Австрии Бруно Крайским). А я с шести вечера сидел на вахте министерства и ждал. В 12 часов ночи наконец мне все-таки выдали загранпаспорт. Вот после того концерта он и подарил мне свою дирижерскую палочку, с которой я никогда не расстаюсь, храню ее в особом карманчике скрипичного футляра, как талисман... А фон Караяну, который в свое время трижды высылал мне приглашения, так и не удалось прорубить для меня «окно в Европу». О чем он впоследствии очень жалел. – Часто ли в вашей руководящей работе требуется крещендо или стаккато в голосе? – Очень редко. Думаю, что в общении с людьми должно преобладать, скорее, легато.