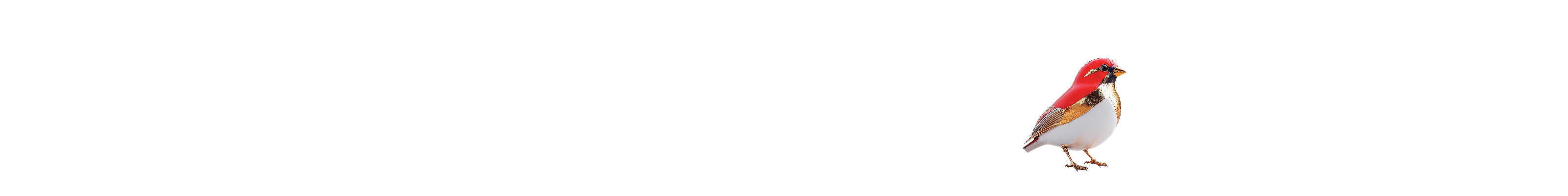Одержимые
ЧТОБЫ изобрести шприц для вливания крови или лекарств в вену, понадобился укус змеи, сифилис и книга Гарвея о движении крови.Сначала было слово, то есть книга. Гарвей опубликовал ее в 1628 году и тем самым оповестил весь мир, что он открыл законы кровообращения. Размышляя над «собственноручно» открытым законом, Гарвей пришел к выводу, что люди умирают от укуса змей потому, что яд с кровью распространяется по всему организму. Но дальше умозаключений он не пошел.Зато его коллеги – английские врачи взяли его вывод на вооружение и стали прилаживать к своей врачебной практике.О том, что вслед за ядом нужно отправить по крови противоядие, рано или поздно, но все-таки догадались.Голову долго ломали над тем, как это сделать технически. Современному читателю это, видимо, покажется смешным, ведь шприц стал для нас чем-то обыденным. Но тогда, в Средневековье, даже в смелых выдумках фантастов подобный медицинский инструмент не вырисовывался.И тогда врачи взяли в руку клизму… Да-да, именно клизму, не удивляйтесь. Этот немудреный инструмент в Средние века был в саквояжике каждого врача, без клизмы было никуда, они без нее были как без рук. С помощью клизмы и решили попробовать влить лекарство в вену.[b]Именной опыт[/b]История сохранила для нас имя первого естествоиспытателя, который поставил эксперимент на себе.Это был выдающийся хирург второй половины XVII Матеус Готфрид Пурман. Он был образованнейшим человеком своего времени. Будучи на гражданской службе, доктор приобрел обширные медицинские познания. Кроме этого, Силезия, в которой доктор родился и проживал, в то время постоянно с кемнибудь воевала, и Пурман накопил огромнейший опыт военно-полевой хирургии.На основе приобретенного врачебного опыта Пурман пришел к выводу, что огромное количество воинов можно было бы спасти от смерти, если бы суметь влить им потерянную кровь, и огромное количество людей выздоровело бы после болезни, если бы им влили лекарство, которое разошлось бы по всему телу.Тут как раз вышла в свет книга Гарвея и подоспела весть о его выводах, как можно вылечить людей, укушенных змеей. И Пурман взял в руки клизму…[b]Обыденный подвиг[/b]Ставить эксперименты на себе в то время было делом обыденным. Если возникала у врача мысль о новом способе лечения, он проверял свою догадку на собственном организме. Это сейчас мы называем таких людей героями, рисковавшими собственной жизнью во имя человечества. А тогда это были просто люди, одержимые идеей, не имеющие других возможностей проверки, кроме своего тела. Нет, подопытные животные тогда тоже были, конечно же. Но разве сможет какая-нибудь овца проблеять о своем состоянии – кружится ли у нее голова, холодеют ли копыта? Вот и приходилось докторам полагаться только на свои ощущения.В 1670 году Пурман принял решение поставить эксперимент на себе. К тому моменту уже было проведено вливание телячьей крови в вену женщины, больной проказой, с помощью все той же труженицы-клизмы.Пурман решил попробовать влить себе лекарство. Повод, кстати, был. Хирург страдал от какого-то кожного заболевания (впоследствии доктора сделают предположение, что это, возможно, была чесотка). Цель опыта – попытаться вылечиться от болезни новым способом.Для проведения опыта Пурман пригласил одного из своих хирургов, который должен был сделать внутривенное впрыскивание в предплечье. Что тот благополучно и сделал. Однако практически сразу после процедуры подопытный… упал в обморок. Много догадок было высказано о причине столь неприятного последствия. Остановились на двух. По одной версии, перед впрыскиванием не выпустили некоторое количество крови из вены. По второй – обморок случился от нервов.Позднее специалисты решат, что все дело в составе лекарства. На эту мысль исследователей натолкнуло описание симптомов и ощущений самого Пурмана. В месте укола клизмой возникло воспаление, от которого доктор страдал еще довольно долго.Однако чудо все-таки произошло – кожная болезнь, которая мучила его в течение нескольких месяцев, прошла за три дня. Пурман был очень доволен. Однако по непонятным причинам знаменитый хирург повторил свой опыт лишь 8 лет спустя.В одном из походов он заболел горячкой. Жизнь его висела на волоске. И чтобы спасти себя, он вновь решается впрыснуть лекарство в вену.На этот раз Пурман сам приготовил лечебный состав. И вновь полный успех! Болезнь отступила, жизнь врача была спасена.Как утверждают историки, это был первый опыт на самом себе такого рода. В результате в арсенале врачей появилась «новая хирургическая клизма», как теперь стали называть метод внутривенного впрыскивания. И самое главное – этот опыт дал толчок для продолжения исследований.[b]Повторение – мать учения[/b]Немецкий хирург Иоганн Фридрих Диффенбах был самым любимым доктором не только всех фрау, но и прочих модниц во всем мире. Объясняется все просто – доктор был пластическим хирургом.Его искусственные носы в то время были знамениты во всем мире. Но это не единственная его заслуга, которая позволила пластическому хирургу остаться в исторической памяти. Сохранилось его письменное сообщение о героическом подвиге, который совершил американский врач – доктор Гейл – из Бостона.Только из этого сообщения гениального пластика мы знаем о том опыте, который поставил на себе Гейл. В отличие от Пурмана, американец проводил эксперимент в стиле научного анализа. Сначала он впрыскивал животным вполне безобидные жидкости, не вызывающие раздражения, и таким образом установил безопасность метода. Затем ту же процедуру он повторил на себе. А потом с естествоиспытателем что-то случилось – он просто так, без всякого научного подхода и анализа, практически с бухты-барахты впрыснул себе в вену рициновое масло. То ли сказалось желание ученого быстрее получить сногсшибательный результат, а может быть, доктора запор замучил, поскольку рициновое масло тогда использовали как слабительное.Как свидетельствует пластический хирург Диффенбах, сначала Гейл почувствовал маслянистый вкус во рту. Потом у него появились тошнота и головокружение. Гейл пожаловался на «беспокойство в животе». Но ожидаемого стула не было, кишечник не желал опорожняться. Позднее началась лихорадка. Экспериментатор проболел три недели, но выкарабкался. Сейчас любой врач скажет, насколько это опасно – вливать в вену маслянистые жидкости. Но тогда медицинские знания в этой области были весьма скудными.[b]Шприц – не клизма[/b]И все-таки они продолжались – поиски безопасного и эффективного метода введения жидкостей в вену. Особенно интенсивно в первые десятилетия после эксперимента Пурмана. Проводилось множество опытов на животных. Врачи пытались получить новые сведения о движении крови. Пытались понять причину возникновения кровяных сгустков в сердце. Их интересовало, как отдельные лекарства действуют на организм животных. Но, увы, сколько-нибудь полезного для науки из этих опытов они получили мало. И знаний было недостаточно, да и не было у них самого главного инструмента для такого метода лечения – обыкновенного шприца. Его по-прежнему не могли вообразить. Должно быть, образ клизмы мешал творческому процессу.Однако в 1853 году Вуд и Правац все-таки изобрели шприц и иглу для внутривенных и внутримышечных инъекций. В этом же году Вуд первым ввел раствор морфина в область нервных стволов при приступе невралгических болей и получил положительный результат. Казалось бы, теперь новый метод введения жидкостей – крови или лекарство – будет важно шествовать по миру и лечить-лечитьлечить всех страждущих. Но не тут-то было. Шприц поначалу «не пошел». Должно быть, потому, что слишком отличался от такой привычной и милой сердцу каждого врача клизмы. К концу XIX и в начале XX века внутривенные инъекции в клиниках были мало распространены, а в частной медицинской практике и вовсе не применялись.Тему попросту закрыли. На долгие годы.[b]Дело за массами[/b]Однако в начале ХХ века замечательный врач Пауль Эрлих тему внедрения шприца вновь открыл. И виной всему стал сифилис. Вернее, он был всегда – веками ополоумевшие сифилитики с провалившимися носами бродили по кривым улицам допотопной Европы, пугая своим видом добропорядочных граждан. Бродили, пока не помирали на какойнибудь помойке, поскольку сифилис был неизлечим. Ситуация изменилась только в 1910 году, когда Пауль Эрлих нашел сальварсан – это чудодейственное по тем временам средство для борьбы с сифилисом. Однако, чтобы лекарство подействовало, его нужно было вводить внутривенно. И медицинские головы вдруг вспомнили, что шприц-то у них уже есть! В общем, как это часто бывает – дело было за массами. А массы в то время болели сифилисом.С тех пор внутренние инъекции прочно вошли в арсенал лечебных средств врачей.Этим способом стали лечить и другие заболевания. Кстати, в то время предпочтение оказывали подкожным, а не внутримышечным инъекциям, считая их наиболее безопасными и эффективными. С течением времени это мнение изменилось, и теперь в большинстве случаев лекарства больным водятся внутримышечно.Сифилис, змея и книжка сделали все-таки свое дело – заставили человечество не только изобрести шприц, но и ввести его в широкую практику.