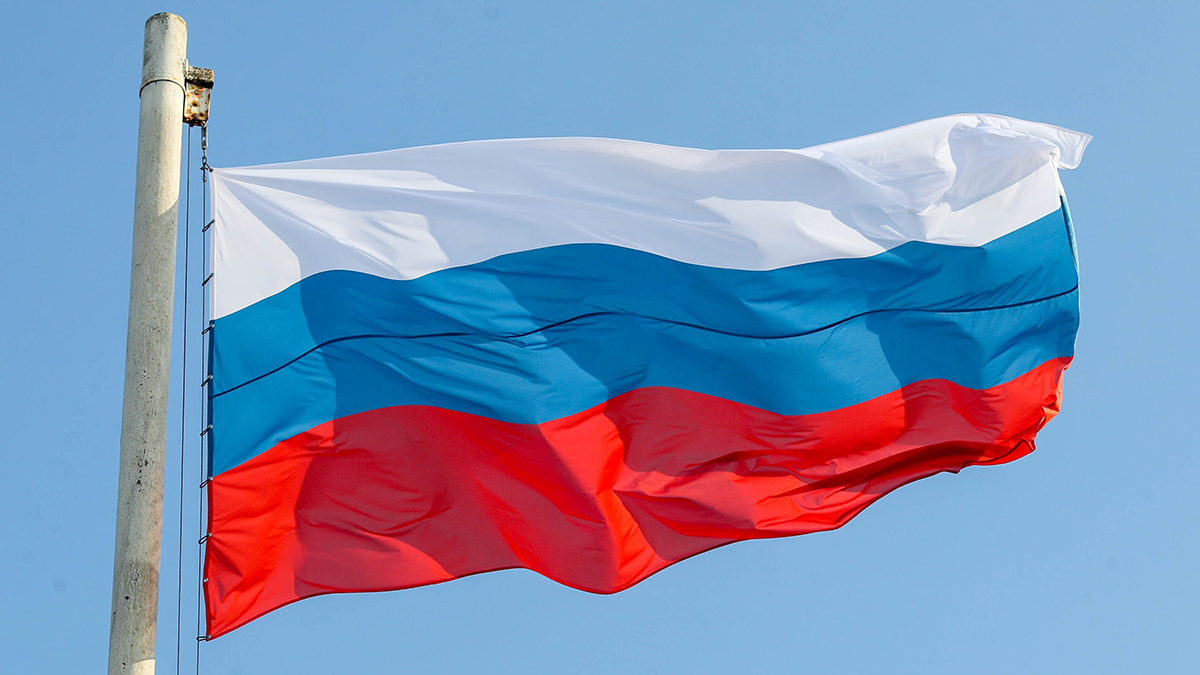«Затерянный мир»: академик РАН Плунгян — о языках, которые могут исчезнуть навсегда
Сюжет:
Эксклюзивы ВМИз 155 языков России абсолютное большинство находятся на грани исчезновения. В Международный день родного языка «Вечерняя Москва» поговорила с лингвистом, академиком РАН, автором книги «Почему языки такие разные» Владимиром Плунгяном о том, почему языки умирают и можно ли обратить этот процесс вспять.
— В последнее время много говорят о сохранении языков народов России. Сколько их всего у нас и сколько из них находятся под угрозой исчезновения?
— Мы, лингвисты, всегда осторожны в подсчетах, но недавно специалисты Института языкознания РАН предложили сложную методику, по которой получилось 155 языков. Цифра отчасти условная, можно считать и по-другому, но она хорошо отражает масштаб: раньше обычно говорили «около ста», а тут в полтора раза больше. То есть некоторые сущности, ранее считавшиеся диалектами, теперь признаны отдельными языками.
Однако главный вопрос даже не в количестве языков, а в их жизнеспособности — то есть прежде всего в том, передается ли язык от родителей к детям. Если старшее поколение свободно говорит, дети их только понимают, но отвечают им по-русски, а своим детям (их внукам) язык уже не передают — это называется языковой сдвиг. Самая типичная ситуация для малых языков не только в России, но и в мире. И таких языков, которые сегодня больше не передаются детям, огромное количество. В России исключение пока составляют некоторые регионы, например Якутия, Тува, труднодоступные районы Дагестана… В больших же городах русский неизбежно доминирует. Языки остаются только в сельской местности, но и там их будущее очень шатко.
— Можете привести примеры языков народов России, которые исчезнут в самом ближайшем будущем, буквально завтра?
— Самая тревожная ситуация на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Там есть языки, носителей которых остались буквально единицы. Возьмем ительменский. Это язык коренного населения Камчатки. В XVIII веке он еще был распространен по всему полуострову, но сегодня им полноценно владеют лишь одна или две пожилые женщины. Они работают с лингвистами, прекрасно осознают свою миссию, но новых носителей уже нет.
Или на Таймыре — энецкий и нганасанский языки. Они относятся к самодийской группе уральской семьи (той же, что и финский с венгерским). Ими владеет считаное число пожилых людей. Из других самодийских языков пока «держится» только ненецкий, его еще можно услышать от детей, но в целом вся эта группа языков на грани исчезновения. Так же обстоят дела с интереснейшим юкагирским языком на Колыме — тоже лишь горстка пожилых носителей…
— Понятен культурный аспект трагедии: с языком уходит целый пласт фольклора, традиций. Но в чем, с вашей точки зрения, потеря, если говорить даже не о культуре, а о чем-то более фундаментальном?
— Для меня, как для лингвиста, ответ очевиден. Лингвистика — это наука о языковом разнообразии человечества. Когда язык исчезает, мы теряем предмет нашей науки. Мы теряем знание о том, каким еще может быть человеческий язык, какую еще структуру он способен породить. Мы теряем возможный ответ на вопрос: «Как устроено наше мышление?».
Можно провести аналогию с биологией. Исчезновение вида животного или растения обедняет биосферу, лишает нас возможных источников новых лекарств или просто знаний об эволюции. Так же и здесь. Исчезновение языка — это обеднение разнообразия мира. С этой точки зрения — это трагично, как и любая утрата в природе. Каждый язык — уникальная, бесконечно сложная структура, которая создавалась тысячелетиями. И, в отличие от биологических видов, новые языки сегодня уже не возникают.
— Вы сказали, что это плохо для науки. А для обычных людей, которые не говорят на этих языках и не изучают их, в чем потеря?
— Это вопрос более сложный и не такой однозначный. Люди часто переходят на крупные языки добровольно, потому что это удобно, открывает доступ к ресурсам, образованию.
Что в этом плохого? Мы утрачиваем культурное своеобразие. Конечно, идеальная ситуация — это двуязычие: ты говоришь на языке своих предков и на русском (или на английском, арабском, испанском…). Человек становится эмоционально, интеллектуально, духовно богаче, если сохраняет язык предков, оставаясь при этом встроенным в современное общество. Но, к сожалению, люди любят экономить ресурсы, да и мир в целом не поощряет многозадачность.
Правда, сейчас на наших глазах активно развиваются нейросети, они прекрасно работают с разными языками. Возможно, технологии будущего создадут легкий и комфортный способ поддерживать многоязычие, снизив «стоимость» владения редким языком.
— А есть ли примеры, когда язык, уже находившийся на грани исчезновения, удалось спасти?
— Таких примеров немного, и чаще всего они связаны не с чисто лингвистическими, а с мощными внешними, в том числе политическими и экономическими факторами. Классический пример — ситуация с саамскими языками. Это группа языков, их около полутора десятков. В России саамы живут на Кольском полуострове, и их язык в очень тяжелом положении, на грани исчезновения.
А вот в Норвегии ситуация иная. Это богатая страна, которая поддержала свое (практически, единственное) исконное меньшинство. Создали даже Саамский университет. Государство вложило огромные ресурсы в поддержку языка. Но затормозит ли это окончательный переход саамов на норвежский (или на английский)? Большой вопрос. Скептики говорят, что это просто немного отодвинет неизбежное. Таких попыток пойти против течения в мире было немного, и, кажется, пока людям не удается переломить глобальный тренд.
— А что может сделать государство? Та же инициатива с учреждением Дня языков народов России — это шаг в верном направлении?
— Да, безусловно, это правильные шаги, и о важности многоязычия говорить нужно. Но мы должны понимать: никакими декретами мы не можем заставить солнце всходить на западе. Помните мудрого короля из «Маленького принца»? Он говорил: «Если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, а генерал не выполнит приказа, виноват будет он? Нет, виноват буду я». Так и здесь. Мы не можем государственным декретом приказать языку жить.
Наверное, главное, что могло бы сделать государство, — это повлиять на общественное мнение. Нужно донести до людей мысль, что родиться носителем малого языка — это не недостаток и не помеха. Это подарок судьбы, который делает вас уникальной частью мирового узора. Носители таких языков чрезвычайно нужны нам, лингвистам. Если они получат образование, они смогут стать уникальными специалистами по своему родному языку. Нужно переломить ситуацию в головах людей, показать ценность, а не «ущербность» многоязычия. И здесь действительно важна любая риторика на государственном уровне, которая меняет восприятие в этом направлении.
— Мы часто говорим о Дагестане как о регионе уникального языкового разнообразия. Почему? В чем его языковая уникальность?
— Весь Кавказ — это колоссальная языковая лаборатория, но Дагестан выделяется даже на этом фоне. Причина историческая и географическая. Горы всегда способствуют обособлению людей и сохранению языков. Это видно и в Новой Гвинее, и в Гималаях.
Но в Дагестане сыграл роль еще один фактор. Через равнины проходили волны завоевателей, возникали огромные империи (персидская, арабская, тюркские), которые унифицировали языки. А у подножия Кавказских гор эти волны останавливались. Поэтому там, в горах, законсервировались и развились удивительно разнообразные и архаичные языки. Это настоящий природный заповедник, такой «затерянный мир» языков. По экзотике и сложности языков Дагестан занимает одно из первых мест на планете. Например, именно в языках Дагестана зафиксировано самое большое количество падежей.
— Раз уж мы заговорили о сложности. Какой язык в России самый сложный для изучения?
— Понятие сложности само по себе сложно и неоднозначно. Но если мы говорим о многообразии грамматических форм — и одновременно об их нерегулярности, которая требует запоминать формы, а не образовывать их по правилам, то тут снова лидируют языки Дагестана. Впрочем, им не уступают и самодийские языки, о которых мы уже говорили, и чукотско-камчатские (чукотский, корякский, тот же ительменский). Нельзя забывать и про абхазо-адыгские языки, например, адыгейский. Там система глагола устроена так, что целое предложение может умещаться в одном слове, а грамматическая сложность просто колоссальна. Что касается звукового строя, то и здесь пальма первенства снова у Кавказа. В русском языке около 40 фонем (звуков, способных различать разные слова), это нормальное среднее число для человеческого языка. В адыгейских языках гласных фонем может быть всего две, зато согласных — много десятков, причем с самыми экзотическими способами произношения: увулярные, лабиализованные, глоттализованные и другие, которые нам, не носителям, не только воспроизвести, но даже представить трудно.
— Владимир Александрович, вы — типолог, то есть специалист по языковому разнообразию. Сколькими языками вы владеете?
— (Смеется) Типолог обязан знать что-то о всех языках мира. Их около семи тысяч. Конечно, никто не знает их одинаково хорошо. Всю жизнь мы стараемся пополнять эти знания. Для лингвистов чтение новой грамматики какого-нибудь экзотического языка увлекательнее любого детектива. «Как там устроена система притяжательности? А ну-ка, интересно!» Это бесконечный процесс.
Есть регионы, где я работал в экспедициях. В тот момент, когда работаешь с носителями, стараешься овладеть языком на минимальном уровне, необходимом для работы. Но потом это забывается — человеческая память не бесконечна. Мы, типологи, похожи на цыган: сегодня я работаю с языком Восточной Африки, завтра — с языком Гималаев, послезавтра — отправляюсь на Таймыр или на Балканы. В момент работы — максимальное погружение, но потом — следующий объект, который может быть абсолютно не похож на предыдущий.
— Вы упомянули экспедиции. Расскажите о «работе в полях». В каких регионах России вы бывали?
— Полевая работа — это основа обучения лингвиста. Мы приезжаем на территорию, где живут носители языка, в их естественную среду. Конечно, можно найти информанта и в Москве, но лучшие результаты получаются именно «в поле», в тех местах, где на этих языках еще говорят каждый день. Часто это очень труднодоступные места без интернета и электричества, но зато — с уникальными языками. В студенческие годы я много ездил в Дагестан. Это была отличная школа. Человек, поработавший с дагестанскими языками, потом уже в лингвистике не боится ничего. Мы стараемся сохранить эту традицию, и наши студенты до сих пор ездят в экспедиции. Из регионов России я работал и на Кавказе, и в Поволжье, и на Севере. Это незаменимый опыт.
Ранее вместе с экспертами «Вечерняя Москва» выясняла, как сохраняются языки разных народов нашей необъятной страны.