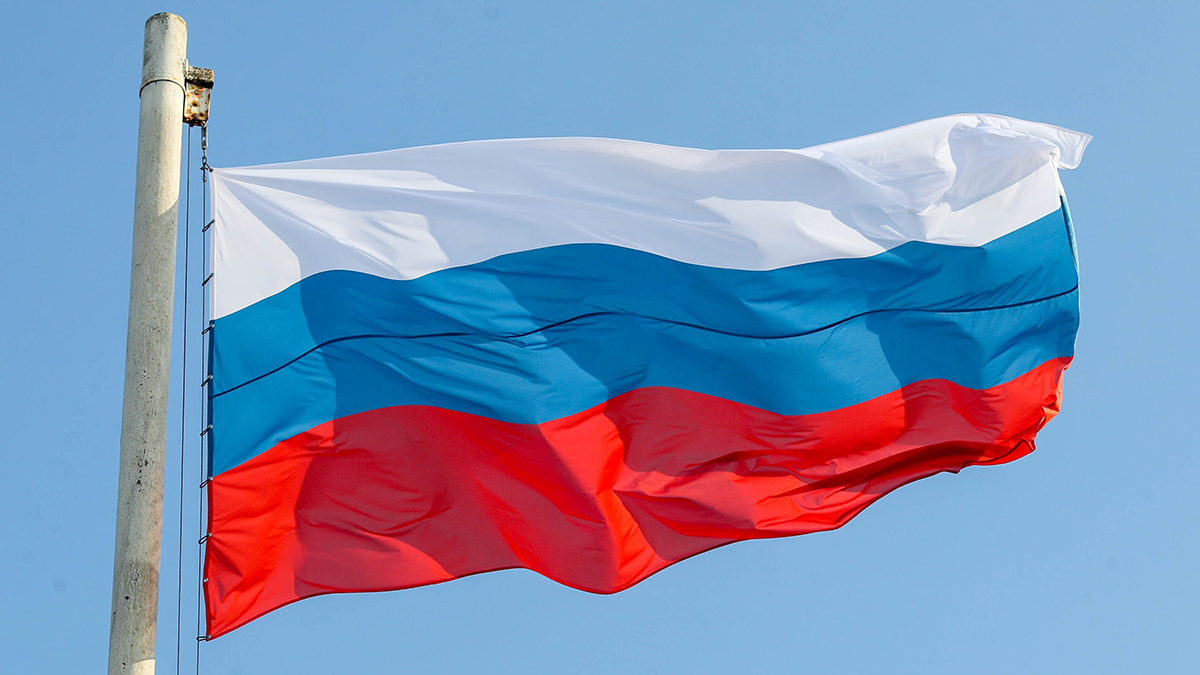Не вещун и не оракул
Сюжет:
Уходящая натураНичто так не способствует философическим раздумьям о минувшем, как даты, у которых на конце ноль. Впрочем, по достижении определенного возраста, когда юбилеев предвидится уже немного, а поотмечать еще хочется, сгодится и конечная цифра пять. А если к какой-нибудь круглой или полукруглой дате неожиданно присоединяются иные годовщины, тогда жизнь предлагает целый букет воспоминаний.
У автора этих строк как раз тот случай. В начале мая у меня день рождения. А через два дня после него — бывший День печати, который при предшествующем государственном строе праздновали все газетчики Союза.
Сейчас он отменен, ибо выход первого номера газеты «Правда» уже не считается знаковым событием, однако бывалые журналисты по-прежнему отмечают 5 мая.
А теперь вникнем в игру цифр. «Правда» вышла в 1912 году, так что наступит 105-летие (полукруглая дата). Я родился на 40 лет после нее (кругло), спустя 25 лет (полукругло) начал работать в газете. И вот теперь, накануне своего 65-летия (полукругло), вычислил, что, оказывается, пребываю в журналистской профессии ровно 40 лет (кругло). Из которых 10 лет (кругло) — в «Вечерней Москве».
И вы скажете, что это не повод окинуть взглядом свой геройский путь? Да, именно так, не будем скромничать. Перефразируя фразу из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», сорок лет строчить заметки — я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть.
■
Кто посмел сказать, что газета живет один день? Это новости назавтра прокисают, а сама газета — вечна! В издании многолетней давности можно вычитать то, что у вас сегодняшнего вызовет целый веер веселых и горьких мыслей, ассоциаций и параллелей. И это, поверьте, очень интересно. Особенно если прочитанное вами же и написано.
Перечитывание собственных сочинений увлекает тем, что можно наложить тогдашние свои наблюдения, эмоции, предчувствия на последующие реалии. И чем длиннее мост времени, отделяющий дату публикации от сегодняшнего дня, тем неожиданнее и ярче впечатления. Вот мой репортаж 25-летней давности (полукругло).
На дворе год 1992-й. Уже минул эпохальный 1991-й, уже накрылся СССР, но еще не наступил 1993-й, в Белом доме пока нет танковых пробоин. Новая страна по имени Российская Федерация пребывает в полупозиции: энтузиазм тухнет, благосостояние народа критичное, надежды, однако, остаются.

И тут в городе Сочи устраивают первый всероссийский конкурс «Шоу-королева». В качестве гостей прибывает культурный бомонд, понынешнему — селебрити. Итак, фрагмент репортажа.
Трон шоу-королевы не наследуют, на него карабкаются. А нам — зрителям, гостям, журналистам — ни на какой трон ползти не надо. Мы — свита, которая играет королей, а также и королев. Наше дело — радоваться жизни, изливать восторг, и чем натуральнее мы это делаем, тем лучше исполняем назначенную роль. И вот грохочет концерт художественной самодеятельности «звезд», с наслаждением валяющих дурака, и фонтаны бьют из наших глаз, фонтаны хохочущих слез, с которыми исторгаются из нас обиды, страх, зависть, беспомощность, злоба. Со слезами мы выдавливаем из себя раба, и не по капле, а струями, будто клоуны в старом цирке.
Что с нами, где мы? Или это что-то наподобие острова Крым, отсеченного аксеновской импровизацией от материка и оказавшегося недосягаемым для доблестной Красной армии? Мы живем здесь без напряга, как у себя дома, и вежливы, предупредительны, как в гостях. Остров Сочи. Российский — и все же счастливый.
Он, и только он, нужен нам, а никакой не остров Крит, не остров Капри и даже не остров Манхэттен. Даруй нам, Сочи, легкость мысли необыкновенную! Но ухо ловит чью-то фразу: «Пир во время чумы».
И вот тогда приходит вопрос, простой до идиотизма: вправе ли мы быть счастливыми? Почему в столь редкостную минуту радости вонзается в тебя мысль: не кощунствуешь ли, не юродствуешь? Какой там еще Сочи, когда были, есть и, скорее всего, будут Сумгаит, Тбилиси, Фергана, Душанбе, Баку, Ош, Вильнюс, Рига, Цхинвал — далее везде? Объясни, как жить. Стыдясь собственной улыбки?
Не знаю, как вы, а я в этом тексте, написанном четверть века назад, улавливаю предчувствие будущих событий. Когда я писал репортаж из Сочи, кто мог подумать, что всего через год Москва, которая только что отслужила панихиду по трем погибшим во время путча парням, будет скорбеть уже по сотням убитых, а потом полыхнет Чечня, рухнут взорванные дома в столичных Печатниках и на Каширке, случится «НордОст», потом Беслан...
Автор не приписывает себе дар предвидения, никакой я не оракул и не вещун, и все же обратите внимание, какие непреднамеренные аналогии и связи обнаруживаются в тексте репортажа.
Гуляет город Сочи, еще не догадывающийся о своей олимпийской судьбе. И приходят в голову сравнения беззаботного курорта с придуманным Василием Аксеновым островом Крым, хотя откуда автору знать, что не успеет остыть огонь сочинской Олимпиады, как начнется коллизия с присоединением Крыма, через исторически ничтожный срок Россия окажется в блокаде вчерашних партнеров-союзников, и начнется новый отсчет времени. А гордая столица зимних олимпийских рекордов станет столицей грандиозной допинговой мистификации. Как же, оказывается, все в этой жизни сплетено!
■
Газетчики моего поколения украшали себя романтическим цинизмом, но при этом мы были легковерны, и в наших мозгах непроизвольно прорастала идея: то, о чем ты пишешь, и есть самое важное на свете. Под ее воздействием я на несколько лет погрузился в архитектурную тематику, где довел себя до того, что на полном серьезе утверждал, будто стоит изменить наше пространственное окружение, как преобразятся сами люди и жизнь наладится. Типа красота спасет мир. Ага. Пробегите фрагмент очерка начала восьмидесятых.
Плохую книгу можно захлопнуть. От плохой картины — отвернуться. С плохого концерта — уйти. Но есть искусство, которое воздействует на людей постоянно и независимо от их желания. Это архитектура. На съезде писателей СССР Юрий Бондарев недавно произнес с трибуны: «Если архитектура, к примеру, должна выражать основной дух эпохи, то почему мы без устали строим и строим бездушные прямоугольные города с огромными, продуваемыми ветрами проспектами... Мы не хотим сознавать, что типовые дома и типовые города рождают людей с типовым мышлением».
Все полнее осознается тот факт, что архитектурная среда не пассивный фон, а действенное средство формирования личности. И, стало быть, зодчий — это человек, наделенный немалой социальной ответственностью. Тяжкое бремя, если вдуматься — знать, что созданное тобой переживет тебя. Будет помогать воспитанию всесторонне развитой личности или растить тех самых людей с типовым мышлением. Сегодняшний архитектор держит ответ не только перед нами, но и перед детьми, перед внуками нашими.
Звучит, конечно, пафосно и утопично. При том, что я не «наезжал» на архитекторов, а, напротив, отстаивал их интересы. Старинную, искони уважаемую профессию зодчего необходимо было спасать. Бал правили строители, и любая попытка архитектора хоть немного — какими-нибудь балконными ограждениями или козырьками над входом — разнообразить типовой проект, приравнивалась ими к посягательству на святая святых — плану по валу.
Добровольно поставив себя на службу загнанным под лавку зодчим, я расписывал достоинства новых жилых районов Минска и Вильнюса, реконструкцию старого центра Тбилиси, защищал талантливых архитекторов из Ашхабада, Ленинграда, Москвы... Из уважения меня даже приняли в Союз архитекторов СССР, несмотря на отсутствие соответствующего образования, и я получил право беспрепятственно посещать их ресторан и бар, где мы с героями моих публикаций отметили выход долгожданного постановления ЦК КПСС, направленного на укрепление позиций архитекторов.
И вот теперь, когда городское пространство той же Москвы и других городов куда живописнее и человечнее, чем 35 лет назад, не впору ли автору напомнить о себе, испросить признания прежних заслуг? Я бы не отказался от Ордена Небесполезных Стараний. Пока что не посмертно.
Но заранее знаю, что услышу в ответ: все начало меняться, когда в стране возникла частная собственность, появились новые инвесторы и строительные компании, заработали финансовые рычаги, а уж дальше по цепочке вспомнили про архитектуру.
Ни ты, ни партийное постановление тут ровным счетом ни при чем. И, кстати, имей в виду, что с возведением красивых зданий люди ничуть не изменились: любят деньги, легкомысленны, в общем, напоминают прежних — и далее по Воланду-Булгакову. Так что ошибочка вышла.
■
30 лет назад (надо же, опять кругло) вышло так, что ответственные лица с Центрального телевидения предложили мне стать ведущим «Песни года» — главной музыкальной программы страны. В отечестве стало модно разводить дискуссии по любому поводу, изображать перестройку на всех фронтах, на этом фоне советская песня с одними и теми же авторами и исполнителями сильно напоминала стоячее болото, за это дежурным по культуре могли навалять.

В музредакции ЦТ подсуетились и решено было заменить объявляющих номера дикторов на журналиста, хоть что-то понимающего в музыке (а я делал вид, что понимаю). Ведущий должен был придать передаче полемичность, точнее — видимость полемичности, поскольку на самом деле никто ничего менять не собирался.
Получив один-единственный урок по поведению в кадре (не сутулься, не верти микрофон, не размахивай свободной рукой, не наклоняй голову, а то появляется второй подбородок, не гнусавь, не хихикай, у тебя смех противный, стой к камере левой стороной, потому что левый профиль у тебя еще более-менее, а с правым совсем беда), я был выпущен в эфир, где состроил вдумчивую физиономию и погнал пургу. Причем гнал ее одновременно и на Центральном телевидении, и в центральных газетах. Представляю вам образец глубокомыслия 1987 года.
Ходил занятный слух, будто композитор Френсис Лей имел претензии к советскому коллеге в связи с тем, что первые три ноты известной всему миру «Лав стори» совпадают с тремя нотами популярной у нас песни. Три ноты — смехота! А что сказать о целых музыкальных фразах, отрывках, совпадающих один к одному? Те, кто интересуется зарубежной эстрадой, вполне могли обнаружить ласкающие слух приметы незаконного родства наших и ненаших шлягеров. Ноты стали липкими.
Иногда, впрочем, и не различишь, сознательный это плагиат или просто срабатывает установка на стертость музыкальной мысли, на ширпотреб. Работает система типового проектирования модных песен, и тут иной раз рискованна сама возможность написать что-то выходящее за рамки стандарта. Внутренний сторож говорит: не мудри, делай «верняк». И авторы в самом деле не мудрят. Стыд порой запрещает то, чего не запрещают законы, утверждали древние. Сегодняшняя песенная лихорадка заставляет стыд умолкнуть.
А кто вообще сказал, что советскую песню любят и непременно будут любить? Обстоятельства складываются так, что сейчас, в период духовного углубления, песни низкого художественного уровня вместе с подобными им исполнителями начнут казаться неуместными. Потому что они не дадут пищи нашим мозгам и сердцам, тренирующимся с возрастающей нагрузкой. И чем больше людей окажутся втянутыми в такие тренировки, тем насущнее станет для песни необходимость пересмотреть систему ценностей. Вот тогда-то ей, быть может, придется бороться за место под солнцем.
Когда долго токуешь одно и то же, сам начинаешь в это верить. Сначала я приписал архитектуре способность изменить человеческую сущность, а следом возвел эстрадную песенку в ранг проповедника, которому дано улучшать общественные нравы, что было еще большей ахинеей. Увлекся, однако.
Впрочем, толк от меня всетаки был. Мы с редактором программы Нонной Нестеровской впервые воткнули в телевизионный эфир «Машину времени», отыскав в ее репертуаре чуть ли не единственную песню, где даже самые изощренные идеологи не нашли бы фигу в кармане.
Называлось это сочинение «Песня, которой нет». Чуть проще было с группой «Секрет», которую до нас тоже в ящик не пускали. Мы же продавили питерцев с безобидной песенкой «Сара Барабу», предварительно убедив насторожившееся руководство, что «Сара» не является пропагандой идей мирового сионизма.
И, наконец, мы спасли для народа крутой хит. К своему дебютному появлению на ЦТ Лайма Вайкуле записала две песни. Руководство редакции выбрало «Ночной костер», вторую же песню запретили, обругав ее кабацкой пошлостью. А мы эту пленку припрятали и спустя пару месяцев, рискуя получить по голове, втихаря засунули в очередную передачу. Наутро вся страна запела «Еще не вечер». Вот такие имеются заслуги, которые, надеюсь, хотя бы частично искупают чистосердечные заблуждения автора.
■
Коллеги могут подтвердить, что порой одна и та же тема навязчиво бродит за тобой всю жизнь. Вот газета ровно сорокалетней давности, 1977 год (кругло). Мой дебют в центральной прессе.
В редакцию прислали письмо о том, что пришлые люди повадились в подъезде жилого дома справлять малую нужду. Представьте, до сих пор помню имя жалобщика: Виктор Михайлович Никишков из города Химки.

Проверять письмо отправили, естественно, салагу, не публицистов же ленинской школы занимать всякой мурой. Факты подтвердились, я красочно живописал затопление подъезда фекалиями, а также поставил проблему строительства общественных туалетов в Химках. До сих пор горжусь похвалой главного редактора: «От этой заметки не пахнет мочой».
Представьте, спустя восемнадцать лет туалетная тема вернулась ко мне, но уже в ином ракурсе. Вот отрывок из очерка, написанного после командировки в США в 1995 году.
Пришло время воспеть новый дар человеческого гения — американский туалет 90-х годов уходящего столетия. В техническом смысле это «Шаттл» пополам с «Бураном». В архитектурном — дворец венецианских дожей.
В философском — место, где свобода перестает быть осознанной необходимостью. Верьте мне на слово и не требуйте доказательств. Зачем я, в самом деле, буду рассказывать о ванне с дырочками для подводного массажа — всякого там поглаживания, покалывания и почесывания.
И что толк у вам знать, что фаянс бывает любых цветов и оттенков; что двери и окна приятно украсить витражами; что у хозяина и у хозяйки есть свой туалетный столик, но только у ее столика — выемка для ног (сядет и займется макияжем), а у его — нет (бриться удобнее стоя). Нет, правда, к чему вам эти совершенно бесполезные сведения? Чувствую, разозлил, надобно объясниться. Пиршество туалетной мысли устроено вовсе не для того, чтобы подразнить читателя, для которого совсем недавно пределом мечтаний был чешский унитаз. Это лишь повод, чтобы лучше понять себя.
Принято считать, что история и уклад Соединенных Штатов воспитали независимых и сильных одиночек. Замечаем мы или нет, но многие дееспособные российские граждане кто верной, кто неверной дорогой движутся к тому же — к личной независимости, которая и есть первый и главный признак силы. Послушаем социологов: всего пару лет назад около трех четвертей опрошенных полагались на государственную поддержку, теперь же три четверти надеются лишь на себя. Вы как хотите, а я утверждаю, что эта перезагрузка общественного сознания — главное, в чем изменилась страна за последние годы. Как ни относись к нынешнему моменту, никто, полагаю, не оспорит того, что у нас появилось богатство если не жизни, то выбора. И вы, если постараетесь, сможете оборудовать себе сортир не хуже американского, причем уже не надо идти на поклон к завскладом и товароведу, просто загляните в салон сантехники — и будет вам счастье.
Перечитываю сейчас эти строчки и думаю: а для кого я их писал? Это ведь неправда, что журналист пишет для всех. То есть он, конечно, хочет, чтобы его прочитали как можно больше людей, но все же видит перед собой определенного читателя.
Своего. С которым он на одной волне. Или, если угодно, одной группы крови. До него не надо снисходить, более того — он еще сам тебя многому научит.
Тем, чье мнение мне было важно, я дал название «приличные люди». В это понятие входил и моральный компонент (соблюдают приличия), и материальный (имеют приличное — разумеется, по тем временам — обеспечение). Принадлежащие к этой категории граждане были совестливы и щепетильны, каковые качества не способствуют накоплению богатств, так что олигархами они в итоге не стали. Но и на дно не ушли, поскольку отличались умом, упорством и активностью, что позволяло удалиться на безопасное расстояние от черты бедности.
Такой гипотетический читатель, которого я для себя вычислил, в стране точно был, он есть и сейчас, причем в немалом количестве, и именно для него я писал и пишу с надеждой быть понятым. Смущает только одно: а он-то меня читает?
ОБ АВТОРЕ
Михаил Щербаченко, журналист, писатель, драматург, обозреватель «Вечерней Москвы»:
— Работал в центральных газетах и журналах, на телевидении. Возглавлял Комитет по телекоммуникациям и СМИ в правительстве Москвы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.