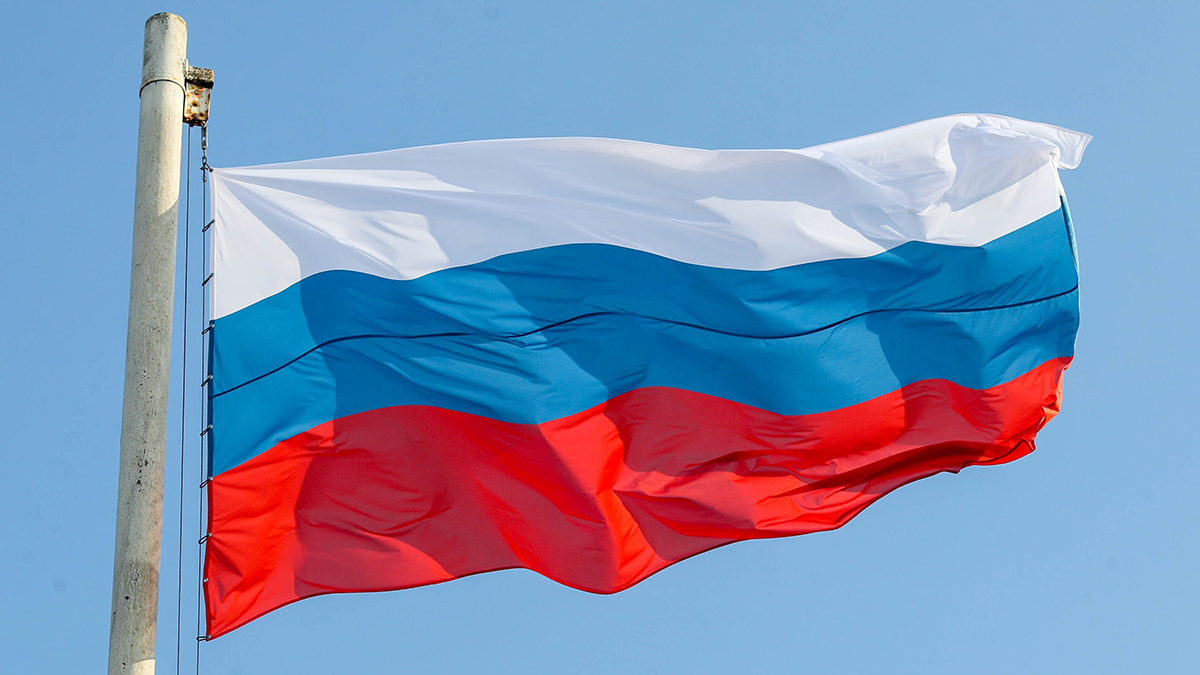Александр Лунгин: Браться за тему Второй мировой войны в кино сейчас не стоит
Режиссер фильма «Большая поэзия», сценарист картины «Братство» Александр Лунгин приступил к работе над третьей частью «мужской кинотрилогии». В беседе с обозревателем «Вечерней Москвы» режиссер размышляет о сложности мирной адаптации солдат, прошедших горячие точки, об образах войны и поэзии на экране, о не изведанных кинематографистами районах Москвы и петушиных боях как отголосках иной культуры многонациональной столицы.
— Александр Павлович, темы, затронутые вами в вашем последнем фильме «Большая поэзия», — колючие, неудобные, о них не любят говорить вслух. Но общество они не могут не волновать. Драма об адаптации к мирной жизни людей, прошедших горячие точки, продолжает линию «Моего сводного брата Франкенштейна» Тодоровского. Тем более удивительно, что первый вариант вашего сценария «Большой поэзии» был комедийным и вы даже собирались снимать Шнура.
— Это было давно, больше десяти лет назад, и изначально фильм задумывался другим — и по настроению, и по смыслу. Хотя сама фабула была похожа: инкассаторы пишут стихи и что-то там грабят. Было другое время, и мы были другими — более молодыми, более веселыми.
— Это было нечто в стиле балабановской черной комедии «Жмурки» 2005 года?
— Скорее, в стиле печальных комедий Гая Ричи.
— В «Большой поэзии» вы поместили героев в мирную среду, где для них нет места. Неслучайно один из персонажей дает им оценку: «К мирной жизни они не годятся». Но при этом вы не устаете повторять, что ваш «Виктор — не жертва войны, а ее лорд, ее господин.
— Я имел в виду, что если вы сравниваете героя моего фильма Виктора с Франкенштейном Тодоровского и другими историями ПТСР (посттравматического стрессового расстройства — прим. «ВМ»), рассказанных в кино, то трагедия Виктора в том, что все относятся к нему как к жертве войны, а он не является жертвой в традиционном смысле этого слова. То есть он не является человеком, который не может спокойно заснуть или не понимает, как ему жить. Человеком, который мучается от того, что он одновременно и хочет вернуться на войну, и ненавидит ее, как это обычно бывает. Скорее, он похож на репликанта, которого играет Рутгер Хауэр в первой части Blade Runner («Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, 1982 год — прим. «ВМ»). Герой Хауэра ведь тоже не просил показывать ему, «как горят десантные корабли над Орионом и как лучи Си пронизывают мрак близ ворот Тангейзера». Но когда он увидел все это, то оказалось, что создан именно для такого. Виктор борется с собой, с правдой, которую он про себя узнал, а не с ужасом своих старых военных переживаний.
— Но разве не получается, что он жертва времени? Он же не контрактником отправляется на ту войну, его туда отправляет страна. И после этой войны у хорошего честного парня нормальные реакции оказываются смещенными. У него в мирной жизни идет война в миниатюре. А люди делятся на своих и чужих. Своим надо помогать, а чужих уничтожать…
— Да, конечно, в этом смысле он жертва. Как и каждый из нас — жертва этого мира. Другие персонажи нашего фильма — Леша, Ротный и даже Цыпин — вот они как раз страдают ПТСР в привычном понимании этого слова. Трагедия Виктора в том, что ему не было там плохо. Напротив, он осознал, что ему на войне было хорошо. И он пытается спастись от этого понимания, прижаться, прибиться к чему-то другому. Но у него не выходит.
— «Большая поэзия» — не первый ваш сценарий, связанный с тематикой горячих точек. Как считаете, у этих ребят есть возможность «выпрыгнуть» из этой истории? Или психологически они ее вечные заложники?
— Я боюсь, что здесь нет универсальных рецептов. Этот опыт «выпрыгивания» очень неровный и индивидуальный. Мы ведь обычно представляем себе войну по книгам и фильмам про Вторую мировую, которая касалась всех. А «малые войны» — они другие. В них основная тяжесть боевых действий лежит на плечах десяти процентов тех, кто туда попал, а то и меньше. Процесс «выпрыгивания» связан с везением и индивидуальными особенностями психики. Кто-то, конечно, «выпрыгивает». А кто-то нет. И таких людей достаточно много, не только у нас, но и по всему миру. Это проблема универсальная. Если вы почитаете то, что пишут солдаты, вернувшиеся из Ирака, вы увидите практически аналогичные вещи и схожие переживания.
— Да, я помню историю журналиста, о которым вы рассказывали в период работы над сценарием к фильму «Братство». Он записался во время войны в Ираке в морскую пехоту на четыре месяца, чтобы написать серию разоблачительных статей о войне. Но срок закончился, а он остался на новый срок. Не смог, не захотел «выпрыгивать».
— В том-то и дело. Парень, про которого я рассказывал, — известный в Америке человек, он пишет статьи о своем опыте. Мало кто об этом говорит так, как он — уверенно, ловко, открыто. Он пишет, что, когда вернулся из Ирака, его взгляды не изменились. Он по-прежнему считает, что война — это страшное зло. Но в то же время он сидит в свое маленькой квартирке в Пасадене, закрывает глаза и вспоминает, как они летели на «Хаммере» по ночной пустыне. И раскаленная дневным солнцем броня постепенно остывала, а в лицо им в любой момент мог хлопнуть выстрел. И честно признается, что «ничего ярче и круче в его жизни не происходило и, наверное, не произойдет». Он не хотел войны, но она вошла в его жизнь и осталась там. Наш герой тоже пытается сказать сам себе: «Война — это ад», и ни слова больше! Но этого оказывается недостаточно.
— Сэм Мендес в своей новой картине «1917» тоже говорит об этом…
— Потому что Первая мировая война в этом отношении ничем не отличается. ПТСР в той форме, о которой мы говорим, тогда и возникло. Как и многие другие формы современных психических расстройств. Наверное, так всегда и было. Люди, переводящие древние таблички, написанные во времена ассирийских царей, утверждают, что солдаты и тогда испытывали сходные чувства. Никуда не денешься: ПТСР обусловлено биохимией человеческого мозга.
— Получается, что ваши герои сродни боевым петухам, которых вы символично вводите в фильм, они «могут только биться и умирать».
— Да, птичья символика мне была важна. Леха отрекается от своего друга, который в определенном смысле является богом войны, еще до того, как петух прокричит три раза. И потом петушиные бои — это часть новой реальности, того, что теперь принято называть Большой Москвой. Люди, которые приехали в столицу строить разноцветные дома на ее окраинах, приносят с собой среднеазиатскую культуру. В Таджикистане и особенно в Узбекистане петушиные бои — популярная вещь, там играют на всем. Есть бои петухов, баранов, даже перепелов. В России петушиные бои вроде как запрещены. Вернее, запрещены не сами бои, а тотализатор, игра на деньги. Но если заглянете в интернет, он пестреет огромным количеством сайтов заводчиков. Так что нет проблемы купить себе пару боевых петухов. Было бы желание.
— Ну а в чем символика свалки, которую герои охраняют непонятно от кого?
— Мне было нужно выразительное пространство, на которое мы могли бы посмотреть глазами Виктора. А он воспринимает окружающий мир как пустыню. Свалка в этом смысле подходила идеально. И мы нашли подходящий район, где 30-этажные дома стоят вокруг огромной помойки, которая выше их в полтора раза. Он называется Некрасовка.
— Среди фильмов, снятых по вашему сценарию, — картина «Братство» Павла Лунгина, рассказывающая о другой, афганской, войне. К фильму были претензии ее участников. С чем вы согласны, с чем нет?
— Я, честно говоря, считаю, что это просто русский вариант треш-тока, который сопровождает все относительно дорогие кинопроекты («треш-шок» — грязная болтовня, одна из форм оскорбления в конкурентных ситуациях — прим. «ВМ»). Ну разве можно серьезно обсуждать, пили ли военные водку в Афганистане или не пили? Я в Афганистан съездил. Там война идет до сих пор. И, в общем, это та же самая война. Так что я имею право на свой взгляд на нее и не чувствую себя в какой-то уязвимой позиции. Более того, считаю, что этот скандал был связан не с афганской войной, а с тем, что прокатчики пытались поставить фильм на 9 Мая, что сразу превращало фильм об афганской войне во что-то иное. Что касается самих пожилых людей, когда-то воевавших в Афгане, — ну, слушайте, мы все хотим, чтобы нас любили. В их воображении все войны давно уже слились: они, видимо, представляют себе, что это они, сидя на белом коне, принимают парад на Красной площади, и немецкие орлы свалены у мавзолея, а колонны военнопленных уходят куда-то по Москворецкому мосту. Поэтому и обижаются. Их можно тоже понять. Я сейчас имею в виду тех генералов, которые выражали свое недовольство картиной: у них в головах уже совершенно какая-то иная война. Они пытаются присвоить себе статус абсолютного победителя, которого в любом случае можно только почитать. А это не совсем так. Поэтому их претензии я близко к сердцу не принял. Тем более что люди, которые были в Афганистане солдатами или младшими офицерами, реагируют на фильм совсем по-другому.
— Какую мысль вы сами-то закладывали, когда писали сценарий «Братства»?
— Сценарий был о конце войны. О том, как «пустыня войны зевает за окном».
— Я слышала, что вы хотели снимать еще один фильм, действие которого происходит в Дагестане?
— Но это — не военный фильм. Просто у меня есть план мужской трилогии. Первая часть — про Афганистан, которая стала фильмом «Братство». Вторая — «Большая поэзия». А третий фильм я хочу снять о дагестанских парнях, которые занимаются MMA (смешанными боевыми искусствами — прим. «ВМ»). Я съездил в Дагестан, но пока не уверен, что все получится. Но, наверное, все-таки попробую.
— А почему вас так волнует боевая и военная темы?
— Но мои сценарии ведь не совсем про войну. Афганский возник достаточно случайно, он делался по заказу. Я сам никогда афганской войной не занимался: был еще школьником, когда она закончилась. Война моего поколения — это первая чеченская, что в неком смысле сказалось на моем стиле. А следующий фильм был уже не совсем про войну. Про войну вообще сложно снимать. Слишком дорого.
— Создается ощущение, что ваши герои вышли из не слишком благополучных семей. И что у них в отличие от вас не было деда, который писал бы сценарии к фильмам «Трое в лодке, не считая собаки» или «Посторонним вход воспрещен». Вы сами-то не хотите на этой ниве потрудиться, сделать качественное детское и юношеское кино?
— Фильмы для детей сейчас самая конкурентная ниша.
— Ну, я не об анимационных проектах Сергея Сельянова, который закрывает эту нишу «Богатырями». Я об игровых художественных фильмах для детей, их на наших экранах по-прежнему нет.
— Они есть, но мы их не видим ни в кинотеатрах, ни на ТВ-экранах. Разыгрываются лоты на детские фильмы, под них выделяются значительные деньги, но в этом пространстве крутятся только самые большие игроки киноиндустрии. Это специфический закрытый рынок. Я же сделал дешевый, артхаусный фильм. Но, если уж совсем откровенно, сценарий детского фильма меня, наверное, озадачил бы. Так-то я готов любые сценарии писать, но вот детский... Не знаю. Это — вопрос.
— А чего нашему российскому военному кино не хватает, с вашей точки зрения? В год юбилея Победы их будет много снято.
— Что касается Второй мировой войны, это, на мой взгляд, самая опасная и напряженная в российском кино территория. Я считаю, что браться за эту тему сейчас не стоит, потому что здесь можно столкнуться с по-настоящему серьезными проблемами и жесткой цензурой. Там все делается по каким-то своим правилам, с идеологической в основном подоплекой. И потом еще раз повторяю, это очень дорого. Мне привычнее находиться в нише фестивального артхаусного кино.
— Существует водораздел между российским авторским и коммерческим кино. К первому мы привычно относим кинематограф Тарковского, ко второму — кинематограф Гайдая. Как считаете, кино способно что-то менять в человеке или его цель — подпитывать зрителя энергетически?
— А вы всерьез считаете, что коммерческое кино Гайдая не является авторским?
— Гайдай — единичный случай, под него институты надо было создавать, изучать его метод.
— Мне кажется, сейчас кино перестало быть чем-то единым. Раньше эта целостность гораздо больше проявлялась. Фильмы, которые называют коммерческими и которые принято считать «искусством», сегодня настолько разошлись в разные стороны, что требуют уже совершенно разных навыков. А в 90-е и раньше система была другой, вполне понятной. Ты снимал дешевый фильм и если добивался успеха, то тебе давали бюджет побольше. И ты тогда делал, как правило, не так уже удачно, зрительский фильм. А сейчас люди перестали перепрыгивать с одного уровня на другой. Понимаете? Это стало разными типами зрелища, пересечений немного.
С одной стороны, этот разрыв артхаусное кино освободил: ты можешь пробовать делать то, что тебе интересно, не считаясь ни с какой рыночной конъюнктурой. Но, с другой стороны, кино все равно дорогая штуковина, даже то, которое мы по традиции называем дешевым. Так что подобная ситуация долго не продлится.
— И куда это все выльется?
— Мне кажется, этого никто до конца не понимает, потому что вся революция рубежа 2000-х привела к чему-то совершенно иному. Сейчас киноиндустрия переживает обратное воздействие сериалов и реабилитацию статуса сценария. Теперь содержание снова выходит на первый план. Но что будет дальше, все равно непонятно.
— Может быть, рискнете назвать главную проблему российского кино?
— Мне кажется, что в кино ситуация такая же, как и во всем остальном русском бизнесе. Ослепленные своими пропитанными нефтью надеждами, мы способны реагировать только на что-то очень большое и очень необычайное. Знаете, как рекламный слоган «ТВ-3»: «Все, кроме обычного». Но я думаю, что мы все только выиграли, если бы сумели вернуться к чуду и тайне обычного.
Ну а с точки зрения организации? После Голливуда, Гонконга, Индии и Нигерии — у нас, наверное, самая большая в мире киноиндустрия. И скоро это изобилие начнет сказываться: сама толща индустрии чисто статистически станет порождать неожиданные удачи и прорывы.
Но, учитывая, что людей, которые хотят снимать кино, становится все больше, Минкульт все равно не сможет давать деньги всем. И значит, нам нужно, как это делается во всем мире, учиться работать с международными фондами. Здесь практически никто этого не умеет. Я тоже понятия не имею, как это делается. Но нужно учиться, иначе будешь прозябать.
— Среди фильмов вашего отца какие вам больше всего нравятся?
— «Такси-блюз». И, наверное, «Остров». На мой взгляд, это два лучших его фильма.
— Ну а какие фильмы вы отметили для себя за последние пять лет?
— Пожалуй, «Охотника на лис» Беннетта Миллера. И мне очень нравятся фильмы японского режиссера Хирокадзу Корээда.
— Вы снимали на окраине Москвы. Нравятся ли вам те изменения, которые происходят со столицей? Любите ли бродить по Москве или видите ее только из окна вашего автомобиля?
— Слушайте, Москва во многом стала приятным городом. Особенно летом. Я живу в районе Покровских Ворот, в основном там и гуляю, этот район мне очень нравится. Но я думаю, что настоящая Москва — это как раз и есть район, где мы снимали фильм. Просто привычная Москва внутри Садового кольца отбрасывает непропорционально огромную тень. Она заслоняет ту, где, собственно, и живут люди. В одной только Некрасовке проживают 300 000 человек. Больше, чем во всем центре. И эту Москву я совершенно не знал, видел ее из окна аэроэкспресса или машины, когда ехал на дачу. Выбирая натуру, мы много ездили по окраинам. И реальность оказалась не совсем такой, как я ожидал. Похоже, что язык современного урбанизма очень универсален. И если сделать нарезку из кадров нашего фильма, то сразу и не скажешь, где происходит дело: в Москве, в Мальме или в Маниле.
СПРАВКА «ВМ»
Александр Павлович Лунгин (род. 23 сентября 1971, Москва) — кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Режиссер картин «Большая поэзия», «Некуда спешить», «Явление природы». Сценарист фильмов «Братство», «Дама Пик», «Портрет незнакомца» и других.
Читайте также: Андрей Золотарев: Сценарист — это самая свободная профессия на Земле