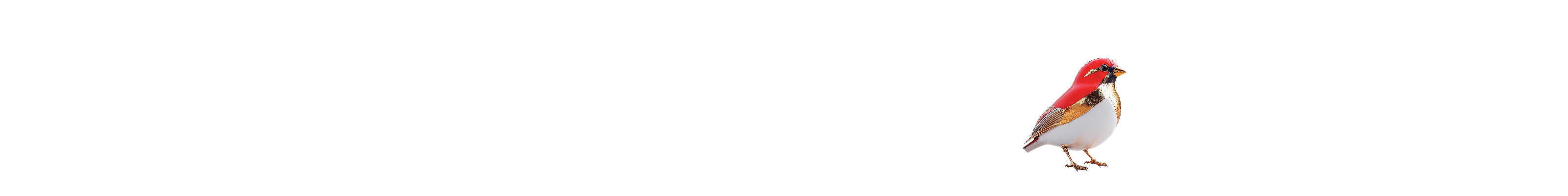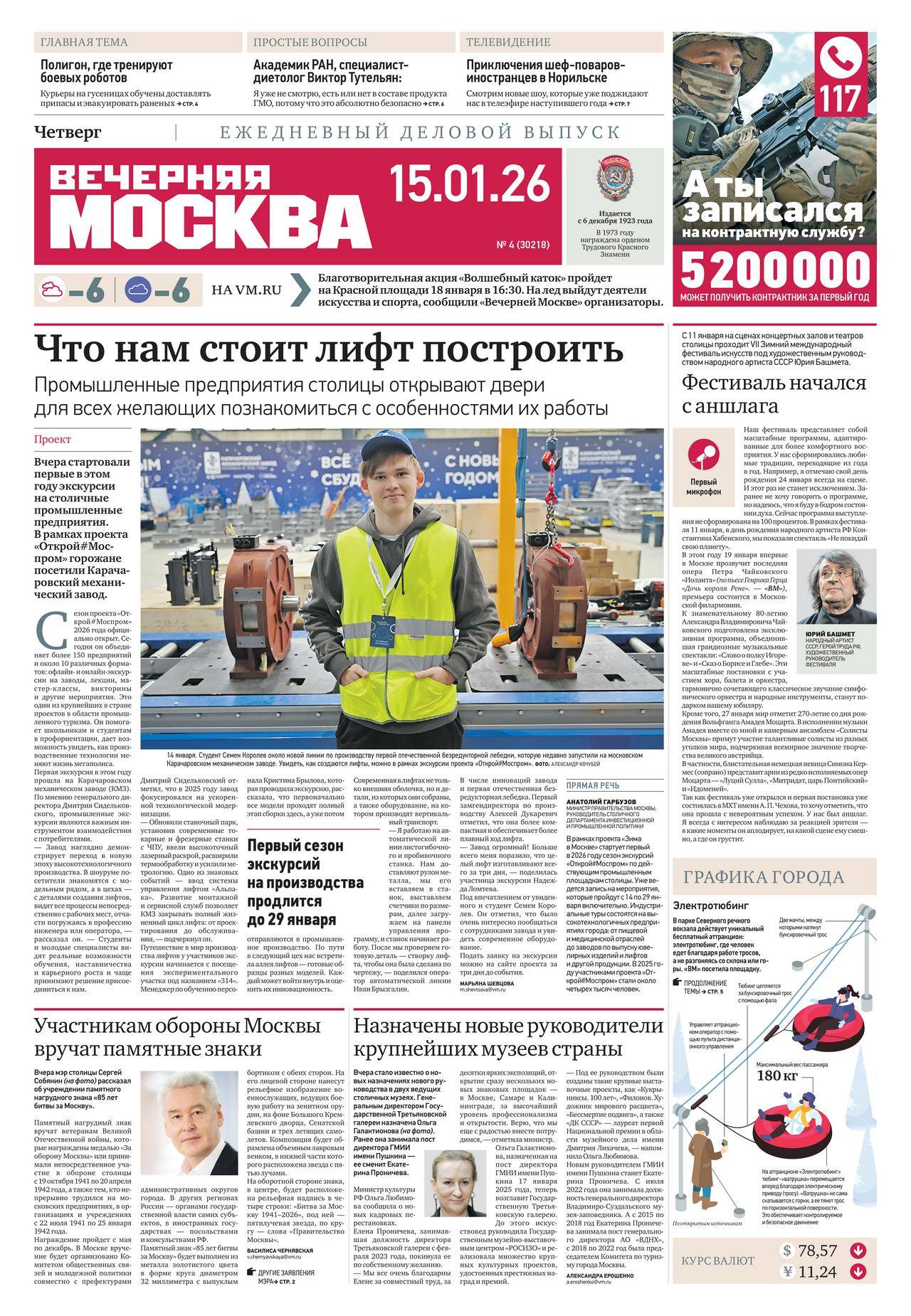Жизнь и судьба Василия Гроссмана
… Он был удивительным человеком и фантастическим писателем. Даже если бы Гроссман написал только «Жизнь и судьбу», он имел бы полное право войти в историю как автор «Войны и мира XX века». Жизнь и мировосприятие всех, кто читал эту книгу, делится на «до и после». Конечно, сейчас это происходит в меньшей степени, чем тогда, когда роман только-только стал доступен. Но в свое время он в полном смысле этого слова переворачивал сознание и перекраивал душу. До сих пор неясными остались лишь два вопроса: как Гроссман мог написать такое произведение и как эта гениальная рукопись могла сохраниться, ведь шансов на спасение у нее фактически не было…

История фантастического спасения
Василий Гроссман разделил судьбу своей великой книги. История ее публикации сама по себе достойна романа! Представьте только, сколь высоким был «уровень тревожности» советского руководства, если в 60-х годах на стол Никите Хрущеву легло письмо, собственноручно написанное председателем КГБ СССР Александром Шелепиным. Неглупый и осторожный Шелепин прочел рукопись только что не с лупой, и очень точно отмечал, что роман этот «только внешне посвященный Сталинградской битве, а на самом деле, о том, что не война и не фашизм, а советская система, советский государственный строй были причиной многих несправедливостей и человеческих страданий…» Ох, как прав был Александр Николаевич, чем прожигающий взгляд вводил в трепет даже плотно сидящих на своих стульях партийцев! Ох, прав! «Приплывшая» в КГБ рукопись (по одним сведениям – доставленная из «Знамени» от бдительного главреда Кожевникова, по другим – попавшая в «органы» из «Нового мира», по третьим – все равно обреченная на попадание туда, не важно каким способом) – была не просто бомбой, а тысячью бомб…
…Февраль 1961 года был мрачным и стылым. 14 февраля, спустя три года после расправы над «Доктором Живаго» Бориса Пастернака и за полтора года до публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына, на роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был наложен арест. Теперь кропотливо уничтожалось все, что можно. Высшие чины госбезопасности изъяли у писателя все, что могло хранить даже малейшие следы написанного: копировальную бумагу, через которую создавались машинописные копии, ленту печатной машинки… С Гроссмана взяли подписку о неразглашении. Это был конец…
Только в состоянии аффекта, ощущая себя на краю пропасти, испытывая колоссальную, невыносимую боль, Василий Гроссман мог написать такое письмо Хрущеву… Это был не крик, этой был вой раненого, да что там раненого, убитого зверя: «Нет смысла, нет правды в нынешнем моем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Я прошу свободы своей книге… Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются с правдой…»
Что такое – написать подобное письмо в те годы? Конец, финал, безумство? Но Гроссману нечего было терять. У него не было ничего, кроме этой «книги его жизни». И Хрущев понял писателя. Правда, понял своеобразно: письмо спасло автора от ареста, но судьбу книги было велено решать главному идеологу страны, зловещему Михаилу Суслову. Сухой, бесстрастный, привыкший тихо говорить – чтобы стояла тишина, дабы не упустить ни слова из оброненного им, - Суслов быстро выдал вердикт. Не письменный – устный. Он вызвал писателя в ЦК. Гроссман стоял перед ним, понимая, что так решается и его судьба. Дома он записал слова Суслова по памяти: «Напечатать рукопись никак не возможно. Судьбу ее мы не изменим. Зачем же нам к атомным бомбам, которые готовят для нас враги, добавлять еще вашу книгу, она гораздо опаснее для нас, чем «Доктор Живаго». Суслов сказал – нет. Доклад и заключение по роману был подготовлен его ассистентами. Внимание: сам Суслов книги не читал. И Бог знает, что было бы, если бы он прикоснулся к роману самолично…
Василий Гроссман с большим спокойствием выслушал бы личный приговор себе. Впрочем, убийство книги было и его убийством. Он так и ощутил происходящее – как собственное убийство. И вспоминал чуть позже: «Тоска была. А потом, по правде сказать, я даже и не заметил, о чем он говорит. Я понял, что я умер…».
Он умер чуть позже – спустя три года. Спустя три страшных года, каждый день из которых он прожил болью, понимая, что вместе с «Жизнью и судьбой» у него отняли и жизнь, и судьбу. Да только рукописи, как известно, не горят…
Василий Гроссман очень дружил с Семеном Липкиным и Вячеславом Лободой. С них и началась удивительная цепочка, спасшая гениальную книгу от смерти. Сначала дочери Лободы Мария и Елена прятали чудом спасенную Гроссманом копию романа в домике под Малоярославцем. Затем Инна Лиснянская, жена Семена Липкина, по его просьбе перенесла рукопись Владимиру Войновичу. Она несла папки с напечатанным текстом в обычной авоське, а казалось, они занимали собой весь мир… Войнович передал роман для пересъемки его на пленку Сахарову и Боннэр, затем они вместе переправили его за границу…
Книгу опубликуют в Швейцарии в 1980 году. В СССР она выйдет лишь спустя восемь лет, а в полном варианте – только в 1990 году. И станет «книгой века». Гроссман умер в 1964 году. Ничего этого он уже не знал.
Нелюбимый военкор
… Василий Гроссман родился в Бердичеве. Главной болью его жизни стала смерть матери – ее убили нацисты в 1941 году. До конца своих дней Василий Гроссман писал ей, безвинной жертве войны, письма… Эпизод с убийством войдет и в «Жизнь и судьбу», но это будет позже…
Военный корреспондент «Красной Звезды» Гроссман был на фронтах Беларуси и Украины, а потом – в Сталинграде, осажденном немцами. На Мамаевом кургане высечена цитата из его репортажа «Направление главного удара», перепечатанного по личному приказу Сталина в «Правде»: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?» Но в 1943 году Гроссмана сменил в Сталинграде Константин Симонов. Почему? Можно лишь предположить, что Симонову верили больше. Говорят, Сталин откровенно не любил Гроссмана. Возможно, вождь народов чувствовал скрытую угрозу, что бурлила в гроссмановских венах…

Потом была Курская дуга и Восточная Белоруссия, Польша, а затем – Берлин… Он понял войну, посмотрел в ее бесстрастные и безжалостные глаза, кожей прочувствовал ее философию. И еще во время войны несколько военных репортажей он напечатать так и не смог. Есть версия, что их «тормозил» лично Иосиф Виссарионович: Гроссман видел в огне войны не только то, что было положено… И невероятным откровением звучали его строки, написанные еще под огнем неприятеля: «Русский человек на войне надевает на душу белую рубашку. Он умеет жить грешно, но умирает свято. На фронте у многих чистота помыслов и души, у многих какая-то монашеская скромность»…
Поднимаясь на невероятно высокий философский уровень, он еще совсем молодым начал писать не просто как писатель, а как глубокий мыслитель. Известно его фантастически точное рассуждение относительно свободы:
«... после смерти Сталина дело Сталина не умерло. Так же в свое время не умерло дело Ленина. Живет построенное Сталиным государство без свободы». И далее, почти как пощечина звучащее: «Со свободой, во имя которой началась в феврале русская революция, Сталин не мог до конца дней своих справиться кровавым насилием. И азиат, живший в сталинской душе, пытался обмануть свободу, хитрил с ней, отчаявшись добить ее до конца. (...) Свобода совершалась вопреки безмерному, космическому сталинскому насилию. Она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми».
Уйти в правду с головой
Россия далеко не всегда, прямо скажем, ценила рожденные на ее земле таланты. Чаще она боялась их. Так было и с Гроссманом. Его рассказ «Треблинский ад» был предъявлен в Нюрнберге как обвинительная литература, а рассказ «Авель (шестое августа)» стал одним из первых художественных осмыслений атомной атаки на Хиросиму. Уже тогда, исподволь, Гроссман начал задаваться немыслимыми с точки зрении советского человека вопросами – как могло случиться так, что советский народ, вынесший на своих плечах столько горя и выигравший такую страшную войну, оказался в результате в еще большей неволе, а немцы, проигравшие, разгромленные и столь сильно подмочившие себе репутацию, добились после войны демократии и так быстро восстанавливали государство? Ключ к пониманию главной мысли и идеи «Жизни и судьбы» писатель заложил в середину романа, перейдя к описанию добра, которое вопреки себе самому вело в истории к злу. «И иногда само понятие такого добра становилось бичом жизни, большим злом, чем зло. (...) Я увидел непоколебимую силу идеи общественного добра, рожденной в моей стране. Я увидел эту силу в период всеобщей коллективизации, я увидел ее в 1937 году. Я увидел, как во имя идеала, столь же прекрасного и человечного, как идеал христианства, уничтожались люди. Я увидел деревни, умирающие голодной смертью, я увидел крестьянских детей, умирающих в сибирском снегу, я видел эшелоны, везущие в Сибирь сотни и тысячи мужчин и женщин из Москвы, Ленинграда, из всех городов России, объявленных врагами великой и светлой идеи общественного добра. Эта идея была прекрасна и велика, и она беспощадно убила одних, исковеркала жизнь другим, она отрывала жен от мужей, детей от отцов».
[OBJ Василий Гроссман. Я понял, что я умер]
Что стоило Гроссману осознание этой глубины? Это признание страшных ошибок, сотворенных на его земле, той земле, которую он не переставал любить? Он ушел в осознанную им правду с головой, дошел до дна, но был утоплен временем, которое умудрился опередить не на год и не на два, а на несколько десятилетий. Такой была его судьба и его жизнь…

… Пережить арест своего романа Василий Семенович не смог. Все биографы говорят в один голос, что именно эта ситуация подорвала его здоровье и ускорила смерть. Вместе с «Жизнью и судьбой», кстати, была арестована и рукопись повести «Все течет» - в ней Гроссман писал о том, как и какими возвращаются из лагерей… Он перепишет ее заново, создаст в новом варианте, но не доживет и до ее выхода в свет: за границей повесть напечатают в 1970 году, а на родине писателя – спустя 19 лет, в 1989 году…
За три года после ареста романа Василий Семенович сильно сдал. 14 сентября 1964 года его не стало – он скончался после неудачной операции (диагноз – рак почки) и был похоронен на Троекуровском кладбище.
Два года назад, в июле 2013 года, ФСБ передало в Министерство культуры РФ копию знаменитого романа «Жизнь и судьба». За год до этого роман был экранизирован Сергеем Урсуляком.