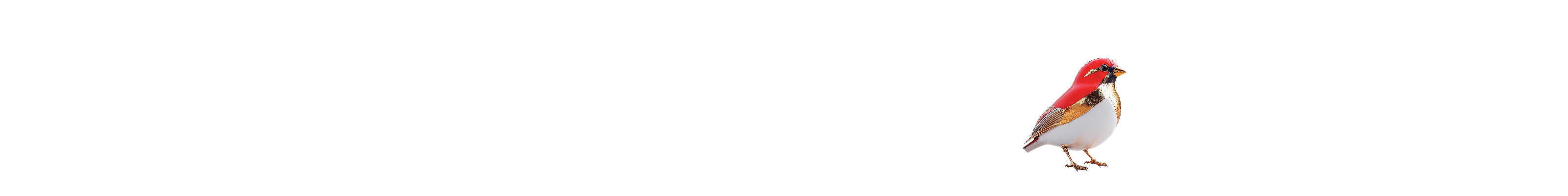Страх – главный враг поэта
Однажды Иосиф Бродский сказал Эдуарду Лимонову, с которым тогда еще дружил: «Зря ты в Штаты переехал. Тут, чтобы выжить, слоновья шкура нужна. А у тебя ее нет».Выжить Лимонов выжил, и даже состоялся как прозаик, но как поэт затих на двадцать лет. Так вот: слоновья шкура – она, может быть, и нужна поэту. Но, обрастая ею, поэт перерождается. Сегодня не зря столь многие подражают Бродскому: его поэтическая поза действительно очень хороша для гнилых, трагических или попросту безнравственных эпох. Ни на что не надеющийся, страдающий, презирающий мир одиночка. Сильный мотор – но ход у стиха получается несколько однообразный. Поэты, выжившие сегодня, могут остаться поэтами; но вот писать по-настоящему хорошие стихи, которые читаешь с радостью, которыми бегаешь делиться, которые вспоминаешь, чтобы найти силы жить дальше, – уже, скорее всего, не могут. Поэту вреден ад: он там не закаляется, а теряет нечто уникальное. Вознесенский, тоже неплохо понимающий в процессе стихописания, заметил как-то: «Я мог бы вам долго и красиво рассказывать, как полезны невзгоды, как стимулирует непризнание, как добавляют уверенности критические наскоки бездарных или попросту озлобленных людей... Но это все не так. Нет в этом ни пользы, ни смысла. Из тебя уходит Моцарт».Вот так мы и живем сегодня – без Моцарта. Стихи должны нести в себе концентрат счастья или энергии. Это вовсе не значит, что они должны описывать розочку и козочку, безоблачные пляжи или счастливую любовь.Стихи могут быть трагичны, отчаянны, мучительны, но все равно обязаны дарить читателю чувство счастья. Выкрикивает же ребенок в порыве счастья свои ритмизованные «экикики», лишенные всякого смысла, – просто от переполняющей его силы жизни. Вот и стихи в идеале должны быть таковы. «Пастернака почитать – горло прочистить», – говорил Мандельштам. Я бы добавил: по горной тропе пройтись. Морем надышаться.У нас сегодня ничего подобного нет. Есть два-три поэта, которых читать приятно и душеполезно; есть пять-шесть авторов, дарящих читателю радость узнавания, точное слово, угаданное ощущение. Но поэзия русская – поэзия как поток, как контекст, как мощная, с многовековой традицией школа – сегодня не существует, и это объяснимо.Причин, собственно, две. Первая – довольно очевидная: надо быть очень сильно убежденным в том, о чем говоришь в рифму. Иначе получается отвратительно. Тухлая рыба опасней тухлого мяса, смертельней, – так и с поэзией: очень уж нежная субстанция.Она если протухает – убивает мгновенно. Скажем, песни Лебедева-Кумача живут и побеждают, потому что автор их, человек небездарный, искренне верил в то, о чем писал. Он действительно считал, что широка страна моя родная и что он другой такой страны не знает (причем действительно не знал). А Виктора Гусева никто сейчас не помнит, даром что когда-то его рифмованные агитки были сверхпопулярны. Потому что Гусев писал фальшиво, а Кумач про то же самое, но честно. Так вот: поэзия предполагает правду. Поэзия не лакирует действительность, хотя и гармонизирует ее иногда: напротив, она о таком проговаривается, о чем ни проза, ни публицистика не догадываются.Так вот, если сегодня честно, без утешительных экивоков обозреть ситуацию, в которой мы живем, – выдержать такой взгляд смогут очень немногие. Написать – единицы, прочитать – десятки. Не более. Если называть вещи своими именами, то кризис накладывается на страшную дезориентацию, отсутствие закона, шаткость морали, – на полное вырождение, короче говоря. От страны отлетела душа. Вот и нету поэзии: ей бы пришлось говорить вещи, которых поэтическая материя часто не выдерживает. Очень немногие – Владимир Корнилов, Нонна Слепакова, а до них Борис Слуцкий – умели делать шедевры на непоэтическом, грубом и страшном материале. Остальные – включая даже Бродского – от такой реальности брезгливо отворачивались.Есть и вторая причина поэтического молчания – она тоньше, трудноопределимей и труднопреодолимей.Поэзия – вещь чрезвычайно тонкая, она не живет в пыточные времена. То есть можно, конечно, прекрасно писать и в застенках – например, во время Второй мировой, когда Муса Джалиль написал «Моабитскую тетрадь». Но тогда у Джалиля было сознание своей правоты – то, что Мандельштам считал основой поэзии вообще. А бывают времена, когда правых нет, когда все – сволочи, либо соучастники, либо молчаливые свидетели.В такие времена разным принципиально антипоэтическим личностям вроде палачей или воров ненадолго удается убедить поэтов, что они, поэты, не нужны – а нужно совсем иное. Такой период наша поэзия переживала в конце двадцатых, когда замолчали Ахматова, Мандельштам, Есенин, Цветаева, Эренбург, Шкапская, нечеловеческим усилием заставлял себя работать Пастернак. Нечто подобное началось в девяностые и продолжается до сих пор. Ремесленники или люди с нечеловеческой внутренней дисциплиной в такие времена работать могут, но истинные поэты пишут очень мало или замолкают вообще. В чем тут дело? В крайней неблагоприятности общественной ситуации, в страхе, в гнете, который на первый взгляд неощутим, но когда он спадает, сразу понимаешь, под каким прессом привык жить. «И вовсе я не пророчица, жизнь моя чиста, как ручей, – а просто мне петь не хочется под звон тюремных ключей», – сказала Анна Ахматова, а может – через нее – и сама русская Муза. Не виновата эта Муза, что свободу в России понимают так своеобразно. Художники, кстати, расплачиваются репутацией именно за то, что при первом дуновении свободы дружно начинают заливаться на разные голоса – а потом под эту свободу половину населения лишают сбережений, профессии и возможности спокойно добираться домой по вечерам. Кто виноват? Окуджава, конечно! И все остальные, кто поддержал этих либералов! Между тем либералы тут вовсе ни при чем – просто на короткое время стало можно дышать, прекратился чугунный холод, перестали пытать в застенках, ну и ладно, ну и спасибо, и вот мы вам споем за это... Особенно хорошо поется не тогда, когда свобода уже пришла и принесла свои неизбежные издержки, а тогда, когда ею еще только запахло. Как весной, в марте, – когда за каждой окраинной новостройкой вдруг начинает мерещиться почти морской простор! Господи! Кто же знает, чем это кончится! Но пока можно, и вот поэзия, как неубиваемая травка, пробивается из-подо льда: в Серебряном веке, когда кончилась скучная ерунда Александра III, в оттепельные времена, когда еще не начал дурить Никита, и в канун перестройки, когда – в 1983–1984 годах – так хорошо пахло переменами! Ведь не либерализм поддерживали и не западничество,до этого поэзии никогда нету дела, — а просто стало можно вдруг чуть поменьше бояться.Страх – главный враг поэта. Чтобы радоваться, надо ведь иногда очень немного. Достаточно никуда не спешить, или ненадолго перестать бояться, или получить от Бога внезапную милость. И тогда стихи приходят как благодарные слезы. Но сегодня не до благодарных слез. Вот говорят: поэзии нет, потому что она не нужна. Неправда это! Она нужна как воздух, потому что поэзия – концентрат силы и счастья, а в нашем анемичном обществе и то, и другое в огромном дефиците. Но взять негде.Нужен в самом деле огромный внутренний резерв – прежде всего культурный, – чтобы писать, как писал Мандельштам в Воронеже: без воздуха, без отзвука. Чтобы написать в ссылке, в заштатном, по сути, городе, под бдительным оком стукачей стихи вроде «Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева холста», – надо жить «тоской по мировой культуре» и памятью о ней. Надо и видеть везде эти рафаэлевы холсты, и прозревать в воронежских холмах другие, «яснеющие в Тоскане», – но откуда у человека, воспитанного в последние годы советской империи, а уж тем более в первые постсоветские, – такой культурный багаж? Все запасы подъедены...Нет, стихи, разумеется, пишутся и печатаются. Есть ли сегодня сильные поэты? Разумеется, есть. Первым я назвал бы Михаила Щербакова, сочинителя, в чьей гениальности лично у меня давно не осталось сомнений.Щербаков – поэт послеромантической традиции, но высокомерия, которое так отталкивает даже в лучших стихах Бродского, у него нет, как нет и цинизма. Есть фантастическое многообразие ритмов и словаря, и самоирония, и точность – все, что делает большого поэта, плюс врачующее душу чувство огромного простора и свободы, которое как-то поселяется в душе даже от щербаковского многословия. Я не назову сегодня поэтов, равных ему, а из прочих мог бы упомянуть весьма многих – замечательную Викторию Измайлову, живущую в Чите и работающую там врачом на три ставки за нищенские деньги. Игоря Караулова, переводчика. Викторию Иноземцеву, экономиста. Инну Кабыш, преподавателя из Москвы, и Кирилла Анкудинова, преподавателя из Майкопа. К сожалению, погрязает в повторах и стилизациях очень хорошо начинавший Максим Амелин, у которого все реже встречается живая интонация. Есть сильные стихи у Линор Горалик и Яны Токаревой. Есть – у Марии Степановой. Но это все, к сожалению, тот случай, когда есть именно сильные стихи – и нет поэта в целом. В иное, более благоприятное время, уверен, поэт состоялся бы. Хотя здесь я могу быть неправ и пристрастен – вкус у меня не то чтобы строгий, но, прямо скажем, узкий. Я не очень люблю верлибры и уж вовсе презрительно отношусь к концептуализму. Думаю, что никакого концептуализма и не было.Работают, конечно, поэты старших поколений – Кушнер, Чухонцев, Вознесенский, Ахмадулина, которую я горячо поздравляю с Государственной премией. Великолепно пишет – и, слава богу, до сих пор записывает пластинки – Новелла Матвеева, самый мой любимый поэт своего поколения.Превосходную книгу стихов «Как я сказал» выпустил Лев Лосев, живущий и работающий в Штатах, но, перефразируя Юлиана Семенова, «Лосев может жить хоть в Африке». Работают Дидуров и Коркия, снова пишет Еременко; скупо, но по-прежнему очень сильно пишет Бунимович. Я неизменно люблю бывших соратников по маньеризму Андрея Добрынина и Константина Григорьева. Можно как угодно относиться к нынешним воззрениям Юнны Мориц (а мне они как раз весьма близки), но Мориц была и остается одним из самых ярких русских поэтов – и в ее случае как раз наличествует главный критерий качества: после нее хочется писать самому.То есть по крайней мере двадцать активно работающих поэтов сегодня в России наберется, и всех издают. Это уж не говоря о толпах имитаторов, которых я тут называть не хочу, потому что о вкусах не спорят.Проблема в том, что почти все эти хорошие и очень хорошие поэты иногда позволяют себе написать то, что действительно думают и чувствуют. А думают и чувствуют они одно – что близятся великие бури, и катастрофы, и катаклизмы; и как ни гони, ни прячь глубже эти эсхатологические предчувствия – они сказываются. И у Мориц, и у позднего Лосева, и у Матвеевой – которую всю жизнь упрекали в отрыве от жизни, а ведь она пишет гневные и отчаянные стихи о самом что ни на есть текущем моменте. И у Кушнера есть об этом же. Люди снова забыли о великих и вековечных различиях между добром и злом, смешали их и начали путать. А тот, кто о таких вещах забывает, напрашивается на грозное напоминание. Каким была Вторая мировая, например. И сегодня, судя по всему, в воздухе что-то такое носится – предощущение больших перемен, и далеко не к лучшему.Конечно, кончится все хорошо – Бог, как известно, правду видит. Но пока закончится – много успеет утечь воды, и не только. Сильные поэты видят и чувствуют это, но, так сказать, боятся называть вещи своими именами.Не потому что опасаются репрессий, а потому что не хотят накликать. У них ведь почти поголовная вера в то, что именно они рулят судьбами мира; без этой уверенности – знаю по себе – поэта не бывает. И если бы все мы сейчас дали себе волю – мы могли бы сказать только одно: «Ждите труса, и глада, и мора, и затменья небесных светил». Оно кому-нибудь надо? Думаю, нет.Старая культура, старая культура, вечный крысолов, зачем ты заманила нас туда, где не выжить с нашим родом занятий? Те же, кто выжил, обросли такой шкурой, что никакой радости и никакого Моцарта в их текстах не осталось.Впрочем, господа, не все так безнадежно. Сижу я и пишу, значит, эту статью, и вдруг распахивается дверь – и входит ко мне Анька Петренко! Живая, настоящая, двадцатисемилетняя. В очках такая вся, и от горшка два вершка. Это ее из колонии выпустили, представляете?! Условно-досрочно. Кандидат наук, преподаватель политологии из Белгорода Петренко села за терроризм. Листовки она распространяла против местного губернатора, да еще ей пришили изготовление муляжа бомбы (мыло с гвоздями и будильником). Кто-то подбросил такой муляж на ступени губернаторской резиденции, а тут как раз ее арестовали с листовками. Ну и приклеили уж до кучи. И поехала она в колонию и вышла только сейчас. А сын ее в это время жил с бабушкой. «Отличник», – гордо говорит Петренко. Она тоже отличница, это у них наследственное.Я обратил внимание на историю Петренко потому, что очень уж мне стихи ее понравились.Петренко, слава богу, жива, несмотря на врожденное сердечное заболевание, и бодра, несмотря на отсутствие работы. Пишет книгу. Думает заняться цыганологией – выучила в колонии цыганский язык и чрезвычайно заинтересовалась фольклором. И стихов сочинила много, только не записывала. Нельзя было, отбирали. Вот теперь запишет.А вы спрашиваете: где русская поэзия? Вот она, русская поэзия. Сидит, хохочет, рассказывает страшное, читает вслух – все как положено. И ничего ей не сделается.