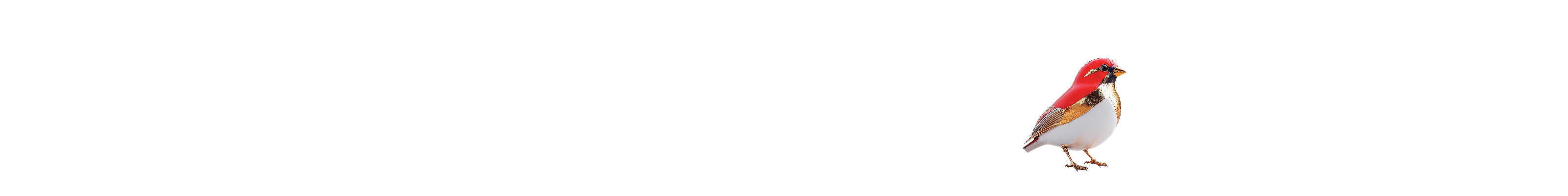За что же принц любил Одетту?
[b]«Нельзя жить так подробно», – ответил как-то Лев Толстой на упрек, зачем он со всем его непротивлением злу насилием прихлопнул на лбу комара. Подробность, с которой погружаешься в конкурс Рихтера, – тоже патология. Ибо обочина, на которой находится в мировом, так сказать, процессе, фортепианное исполнительство, не поддается вычислению даже в микронах. Тем не менее народу в Большой зал консерватории к концу второго тура набивалось битком.[/b]Другие «философские» мысли тоже не раз обуревали на 2-м туре. Вот, например. Несомненно легче выбирать лучших из средних, чем лучших из лучших. Именно в такое положение поставило себя жюри конкурса. Не скажу, что на втором туре играли худшие. Но досада в том, что конкурс Рихтера (еще раз напомню: конкурс-фестиваль) во всем его блеске состоялся именно на первом туре: такого шикарного подбора участников на стартовом этапе не припомнить. Но не говори «гоп»… Слушая их, я уже представляла себе, как второй тур (соответственно жеребьевке) откроет сонатами Шуберта, Метнера и Скрябина Петр Лаул. За ним пойдет китаец Фан-Чанг Йи (какая у него была Шестая соната Прокофьева – прямо-таки рихтеровская!), – и после «Острова радости» Дебюсси битком набитый зал взорвется аплодисментами и криками. Оригинал Кенсей Ямагути, ученик Паскаля Девуайона, удивит оригинальной трактовкой Прелюдий Шопена. Вот было бы начало второго тура! Мечтать не вредно, но бесполезно: эти участники остались за бортом.А второй тур открыл красавец-испанец Клаудио Карбо Монтанер. Если в первом он расположил к себе отважным исполнением Второй сонаты Шостаковича, то во втором занимался бесконечным самолюбованием, что до смешного противоречит творческим принципам Святослава Рихтера. Что же касается, например, незатейливого бетховенского Andante favori, то, поставь перед Рихтером ноты, он не хуже сыграл бы эту музыку с листа. Как говорится, почувствуй разницу.Кореец Юнг Вук Йо лепил бесконечные копии (нет, конечно, если копии хороши – дело это не бесперспективное) – например, с бетховенской «Авроры» или Сонаты Листа. Техника была безупречна, но ужас в том, что все свелось будто к разукрашенным Этюдам Черни. Время от времени я просыпалась и садистски наблюдала за единоборством человека с роялем. Наблюдения продолжатся на 3-м туре.Ани Такидзе (Грузия) получила в народе эпитет «демоническая». Но, по-моему, исключительно из-за земфирообразной угловатости, черных брюк и черной рубашки.Никто из выбранных ею классиков не подразумевал убаюкивать своими сочинениями публику. А у Ани в том числе и Музыкальные моменты Шуберта прозвучали, как шесть колыбельных. Однако в музыкальности и какой-никакой индивидуальности ей не откажешь – за то и прошла в финал.Японка Нами Эдзири расположила публику неизвестным парафразом Худолея на темы «Бориса Годунова». Рихтер, правда, при всей его любви к опере никогда не стал бы играть такую бодягу. Тем более что никакого понимания сути сочинений не было ни в перепевах Мусоргского, ни в «Вестнике» (видимо, подразумевался архангел Гавриил) знаменитого авангардиста Валентина Сильвестрова, ни в смехотворной трактовке Восьмой сонаты Прокофьева.На таком фоне 59-летний Вадим Сахаров, битый всеми жизненными ветрами, сорвал бешеный успех. Ученик Якова Мильштейна, давно парижанин, теперь живущий в Японии, никогда не числился исполнителем первого ряда. Хотя, признаюсь, много лет назад на классном вечере Мильштейна в Малом зале консерватории именно Сахаров открыл мне, школьнице, подлинного Шумана.(Ныне, через сорок лет, на первом туре он играл все ту же «Крейслериану». Ка-акие встречи!) Вадим совершенно не изменился: своевольные трактовки на грани фола, технические проблемы – за японцами ему не угнаться. И все же от его игры повеяло старой доброй русской школой со всем ее благоговением к музыке. Публика слушала даже его аморфную, на грани дилетантизма, Сонату Листа, будто ее играл сошедший с небес гуру. Это было зрелище! Затянутые медленные фрагменты звучали в гробовой тишине, только на последнем ряду похрапывала старушка, которую долго не решались разбудить. Отдадим должное диковинно выстроенной программе, в конце которой авангардная пьеса Али-Заде для препарированного фортепиано (наверное, с напиханными в струны ластиками и фольгой сверху) манерно, но эффектно перешла в посмертный Ноктюрн Шопена.Овациям не было конца. Вечернее прослушивание закончилось на час позже обычного. Но до чего же надо было низвести так блистательно начатый конкурс, чтобы игра всем известного Вадима («Вадика») Сахарова выглядела откровением??!! Кореец Джон-Хва Пак играл на 2-м туре попурри «42-я улица».Так он по ней и дальше с шиком поехал – и Мессиан у него, и «Лесной царь» с «Форелью», и Шестая венгерская рапсодия Листа – все была одна сплошная 42nd street.Из японцев предпочли в качестве финалиста абсолютно феноменального Макото Уэно. Техника у него на грани галлюцинации.Однако что Уэно будет делать на третьем туре? Ведь тому, чем он блистал на первых двух, мы уже наудивлялись с лихвой. Все равно что балерина крутила бы не 32, а неизменно 256 фуэтэ. Но принц любил Одетту не за это! Наших в итоге в финал прошло трое. Тонкий (ничего наотмашь!) Яков Кацнельсон, у которого Бетховен прозвучал все-таки похожим на Бетховена, а Шопен – на Шопена.. Но его Шестую сонату Прокофьева тут же затмило ее исполнение следующим участником – Эльдаром Небольсиным, который очень возвышается над всеми. Лучше я о нем пока умолчу. Тьфу-тьфу-тьфу. Скажу лишь, что ощутила редкую радость, когда гениальная музыка говорит лично с тобой, и ты чувствуешь себя с ней наравне, а не производишь ее анатомический анализ. Это великая заслуга исполнителя.Главный конкурент Небольсина Вадим Руденко на втором туре выступил не так ошеломительно, как на первом. К тому же нельзя 10 лет эксплуатировать один и тот же репертуар! На третьем туре (игра с оркестром; 22 – 24-го с 18.30) финалисты играют таком порядке: Йо, Такидзе; Уэно, Кацнельсон; Небольсин, Руденко. Приятных вам встреч с небожителями!