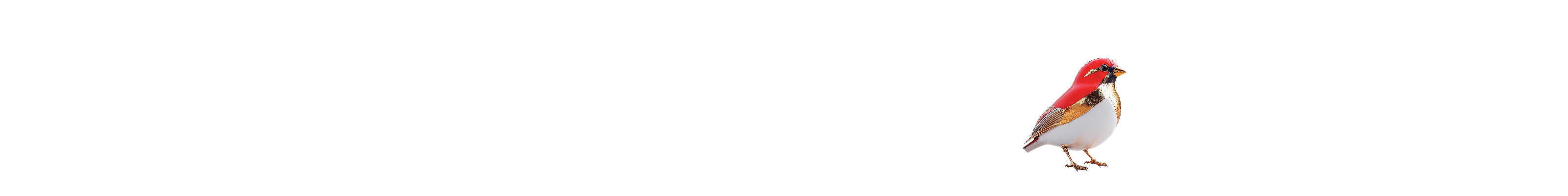В глубине каштана ядрышко гложет червяк
[b]Публика постоянно «болеет». Такая у нее, у публики, планида – заболевать то Тарковским, то Алсу, то Никасом Сафроновым… Один из серьезных диагнозов самых последних лет – японский писатель Харуки Мураками. Болезнь продолжается долго и, судя по всему, очень серьезна. Так что первая экранизация Мураками несомненно вызовет большой интерес.[/b]Мураками родился в семье преподавателя греческого и латыни, писать начал с 30 лет, подолгу жил в Америке. Оттуда он как раз и увидел родную Японию совсем иной, нежели большинство его современников-писателей.Страну восходящего солнца он изображает населенной персонажами явно западного типа. Размагниченными, по-рыбьи холодноватыми, по-рыбьи плывущими по тихому течению жизни, с ленцой и каким-то призрачным мышлением.А сам при этом отличается редкостной даже для японца американской самодисциплиной. И курить бросил с первого раза, и бегает трусцой каждое утро, и плавает, и по многу часов в день работает. А что делают его любимые герои? Танцуют в джаз-барах! «Танцуй и не останавливайся.Какой в этом смысл – не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда. Задумаешься – остановятся ноги... все твои контакты с миром вокруг оборвутся... Даже если все вокруг кажется дурацким и бессмысленным – не обращай внимания. За ритмом следи – и продолжай танцевать... выжми себя как лимон. И помни: бояться тут нечего. Твой главный соперник – усталость. Усталость и паника от усталости… Пока играет музыка – танцуй...» Совет, который Мураками дает своим персонажам, они исполняют неплохо. Хотя часто метафорически. Как, например, Тони Такитани – молодой художник, находящийся в своеобразных отношениях… с собственным одиночеством.Город. Дождь. Художник. Его жена, которая любит красивую одежду. История, описанная в коротком рассказе Мураками, словно сложена из простейших детских кубиков. И воссоздана в фильме точно – текст писателя читает закадровый голос, а актеры иногда выходят из роли, говоря о своих персонажах в третьем лице. Такой прием принято считать снобистским, рассчитанным на элитарного зрителя. Зато он, как и монотонные, нескончаемые фортепианные аккорды, точно передает интонацию Мураками и психологию его бескостных, прозрачных героев. Равнодушных бродяг, так и не преодолевших одиночества и танцующих по жизни со скучающим, непроницаемым лицом.Есть у героя и предыстория. Его отец, игравший в джаз-банде в 1945-м, был арестован, сидел в одиночке и слушал, как в соседней камере расстреливают его товарищей. Потом пришли американцы-освободители.И эти страшные подробности тоже рассказаны безучастным закадровым голосом под визуальный аккомпанемент старой выцветшей кинохроники… О чем это? Кто он, герой фильма, этот молодой художник? Дитя новой свободной Японии? Американизированный житель азиатских островов? Джазмен в краю воинственных самураев? Да не важно все это. Хотя и есть в подтексте. Рассказ Мураками и фильм режиссера Дзюна Итикавы предлагают элегическое размышление на – вот уж истинно японские! – темы. Это призрачность бытия, изначальный и утонченный трагизм любви и межчеловеческих отношений вообще, печальная и неизбежная скоротечность жизни: «Ночь. Луна. Тишина. Только слышно, как в глубине каштана ядрышко гложет червяк…» Для нас, российских зрителей, в фильме есть и особый интерес. Роль Тони Такитани сыграл актер Иссэй Огата.Только что мы видели великолепное исполнение им трагической роли императора Хирохито в фильме Сокурова «Солнце».Сравните только две эти работы – и вы увидите, какого класса этот артист. Знающие люди говорят, что известный комик Иссэй Огата, на выступлениях которого покатываются со смеху толпы, в жизни человек скучный. А о слове «юмор» говорит, что оно вообще английское – в японском языке и понятия такого нет.