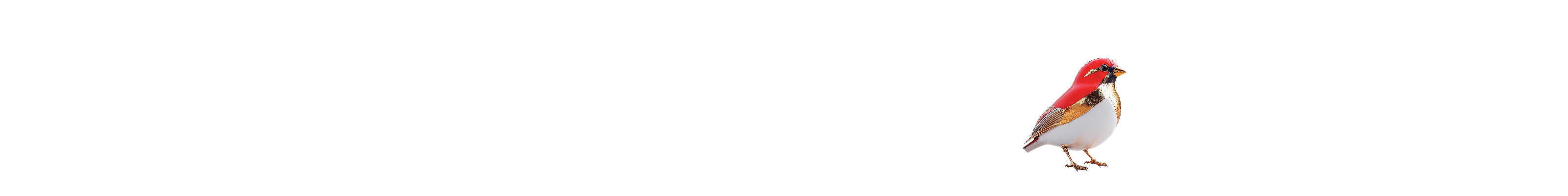Прицельные удары по вирусам на передовой линии науки
– На российском рынке в широком ассортименте представлены лекарства западного происхождения. Наших – значительно меньше. Мы никак не можем наладить производство? Нам снова чего-то не хватает?
– Давайте определимся, что мы понимаем под западным производителем. Существует государственная программа, которая называется «Фарма 2020», и ее основной задачей является локализация производства лекарственных средств на территории России. Большая часть лекарств, которые мы ментально воспринимаем как западные, в связи с названиями на упаковках, уже производится в Российской Федерации. Возникает логичный вопрос: российское это лекарство или нет? И на него не так-то просто ответить.
– Лекарство называется российским, если разработано и произведено в России, не так ли?
– Дело в том, что фарминдустрия, как и, к примеру, индустрия автомобильная, является глобальной. Это означает, что крупные производители лекарственных средств производят препараты во многих странах мира, включая Российскую Федерацию. С точки зрения производства, эти лекарства являются российскими. С точки зрения экономики – тоже, потому как налоги платятся в России, и рабочие места появляются также в нашей стране. Вопрос в том, что права на инновационные медикаменты принадлежат крупным международным корпорациям.
– Но у нас же есть отечественные фирмы, выпускающие новые препараты?
– В данном случае речь чаще всего идет о производстве дженериков. Здесь все достаточно просто. Это лекарства, срок действия лицензии на которые уже истек, а значит, их могут изготовлять самые разные производители в любой стране мира. Когда действие патента заканчивается, данные о разработанной молекуле становятся открытыми, и другие компании могут просто скопировать разработку. Им не нужно получать права на интеллектуальную собственность, не нужно производить собственных клинических исследований. Они пользуются уже готовым результатом.
Когда речь идет об инновационных препаратах, то с учетом дороговизны разработки, права на них принадлежат крупнейшим мировым концернам, которые их либо разрабатывают сами, либо приобретают разработку на определенной стадии и доводят ее до ума. Как правило речь идет о последних этапах клинических исследований. В этом случае препарат может производиться как на территории Российской Федерации, так и где бы то ни было еще, но права на него остаются в руках корпорации.
– Нашим разработчикам не хватает финансирования и поддержки со стороны государства?
– Наше государство имеет ограниченный ресурс по финансированию здравоохранения, а потому ориентируется большей частью на дженерики, аналоги фирменных лекарств. Их стоимость ниже. У нас много препаратов зарубежного происхождения, но ряд из них производятся в России. Большее опасение вызывает то, что инновационные разработки монополизируются крупными международными концернами, но это, к сожалению, правила рынка. Оплатить последние этапы исследований могут только они. Мы показываем наши проекты нашему рынку, российским производителям. Несколько разработок «Сколкова» уже запущены в отечественное производство.
– Сколько времени нужно, чтобы разработать новое лекарство?
– В зависимости заболевания, против которого направлено действие препарата, сроки разработки колеблются от 7 до 12 лет. К тому же, ее стоимость составляет несколько сотен миллионов долларов. Процесс разработки выглядит следующим образом. Сначала группа исследователей находит некую научную идею, основанную, как правило, на совпадении мишени и лекарственной молекулы. Потом с помощью сложных компьютерных программ эту молекулу доводят до ума. Затем, сначала в результате компьютерного моделирования, а потом и первых опытов, из всех выделяются один или два кандидата. Следующий этап — расширенные доклинические исследования, проводящиеся на животных. И только потом начинается первый этап клинических исследований, который проводят на здоровых добровольцах. Далее следует этап тестирования лекарства на пациентах с конкретной патологией. В нем могут участвовать сотни и тысячи людей. Третий этап клинических исследований, расширенный — работа с десятками тысяч человек. Только после этого лекарство может получить регистрацию.
– На каком этапе находятся разработки резидентов Сколково?
– Если говорить о тех проектах, которые зашли к нам в 2010 году, сейчас большинство из них находится на первом или втором этапе клинических исследований. Одна из компаний-резидентов СКОЛКОВО довела препарат до производства, чем очень гордимся. Он называется «Триазаверин» и действует непосредственно на вирус гриппа в любых его вариантах. С начала следующего года он уже должен появиться на прилавках. Его можно использовать на разных стадиях заболевания. У препарата выявлена высокая активность и против других вирусных инфекций. Пока это проверено только лабораторными исследованиями и опытами на животных, но исследователи рассчитывают, что «Триазаверин» проявит себя и против горячо обсуждаемой в последнее время лихорадки Эбола.
– Какие еще препараты Вы можете отметить?
– Есть интересные исследования в области платформенных решений. Я поясню. Речь идет о таргетной, прицельной доставке лекарственного средства к пораженным клеткам. Часто этот метод используют при разработке противораковых препаратов. По сути, любое лекарство – это яд. Многие медикаменты не смогли выйти на рынок, потому что найденные молекулы эффективно влияли на больные клетки, но при этом возникал сильный токсический эффект. Разработка платформ, в том числе и путем привлечения нанотехнологий, позволяет надеяться на решение этой проблемы. Даже уже известные молекулы при таком механизме можно было бы использовать в меньших терапевтических дозах. При этом они действовали бы только на пораженные области, а не на весь организм сразу. Нужно просто «посадить» вещество на носитель и обеспечить механизм развязывания в момент контакта с клеткой-мишенью. Это позволяет снизить эффективную терапевтическую дозу. Таким образом платформы могут позволить выпустить на рынок массу лекарств, которые ранее невозможно было применять из-за токсичных эффектов.
– Есть ли в Сколково проекты, обращенные к теме образования?
– Это очень важная тема, которой также уделяется особое внимание. Абсолютно ясно, что каким бы современным не было оборудование или медикаменты, в отсутствие квалифицированных специалистов их помощь вряд ли будет такой, какой должна быть. У нас есть резиденты, специализирующиеся на создании роботизированных обучающих комплексов для врачей. Это техника мирового класса. Коллеги уже поставляли эти комплексы в учебные центры США и Турции. Решения оригинальные, разработка целиком и полностью отечественная. К примеру, есть робот, в деталях имитирующий комплект операционной. Тренироваться на нем может целая хирургическая бригада, включая анестезиолога. Компьютер отслеживает действия хирургов и может моделировать различные условия или осложнения при операции. Машина настолько четко воспроизводит реальную ситуацию, что хирург, работая эндоскопом, не только видит соответствующую картинку на мониторе, но и чувствует сопротивление тканей. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем наши врачи будут проходить обучение при помощи таких комплексов.
– Сколько всего проектов в вашем кластере?
– Сейчас у нас 230 проектов. Из них около 50 процентов – разработки лекарственных средств. Значительную часть исследований занимают проекты противораковых препаратов, средств против сердечнососудистых заболеваний. Разработки медтехники занимают около 30 процентов всего объема. Около 10 процентов – биоинформационные проекты, и оставшиеся 10 процентов занимают проекты, связанные с клеточными технологиями и регенеративной медициной.
– Не могли бы Вы рассказать поподробнее о биоинформационных технологиях?
– С точки зрения развития медицины они наиболее прорывные. Мы увидим результаты, думаю, в ближайшие пять лет. Дело в том, что человечество накопило огромное количество данных, связанных, в первую очередь, с расшифровкой генома, который и стал толчком для развития биоинформационных технологий. К тому же, сегодня в хранилищах человечества сосредоточено гигантское количество клинических данных — диагнозы, истории болезни, диагностические признаки. Все – по конкретным случаям. Объединение этих данных в единую базу и их системный анализ позволит значительно упростить и процедуру разработки лекарственных средств, и принятие клинических решений. Имея данные пациента и общую базу, врач, нажимая на волшебную кнопочку, получит практические рекомендации, основанные на большом количестве достоверной информации. Но это не передовой край науки.
– Тогда какие разработки и направления сегодня в авангарде?
– Проекты, связанные с регенеративной медициной. Ученые работают, чтобы через пару десятков лет выйти на восстановление органов из клеток самого пациента, печать органов.
Такими разработками занимаются и наши резиденты. Биопринтеры пока находятся на стадии разработки, но ими уже интересуются научные учреждения, готовые подключиться к последним этапам исследований. Печать производится с помощью биогеля, составляющего остов органа. Второй путь – использование трупных тканей, полностью очищенных от чужих клеток в качестве каркаса. Я видел такой «призрак сердца» - соединительная ткань белого цвета. Ничего лишнего. Ее можно засеять стволовыми клетками пациента, поставить в биореактор, подождать, пока клетки дифференцируются, и получить опять-таки готовое сердце. Правда, пока дело ограничивается сосудом или частью пищевода.
– Успеет ли наше поколение воспользоваться такими возможностями?
– Технологии развиваются очень быстро. Уже сейчас активно работают компании, занимающиеся биобанкингом. Они хранят человеческие клетки и ткани, чтобы можно было ими воспользоваться в любой момент. Помните, мы посмеивались над фантастическими фильмами, где человека замораживали в расчете на то, что разморозят, когда найдут лекарство от болезни? Все гораздо проще. Нужно просто иметь свой банк стволовых клеток, который можно будет использовать лет через 30. Такими возможностями успеем воспользоваться и мы, а уж наши дети тем более.
– Расскажите о наших специалистах. Правда ли, что российские разработчики ни в чем не уступают зарубежным?
– Верно, но есть несколько «но». Повторюсь: индустрия глобальная, а значит, и разработки глобальные. Поэтому в области биомедицинских технологий они всегда идут в международном сотрудничестве. У нас очень хорошие химики, системные биологи, прекрасные IT-специалисты и математики. Но зачастую они работают в международных корпорациях. К сожалению, в нашей стране просто не хватает инфраструктуры для обеспечения процесса разработки. Исследователи вынуждены обращаться к зарубежному поставщику для того, чтобы довести дело до конца. Это касается как технологических аспектов, так и наличия, к примеру, модельных животных. В лабораториях живут не обычные мышки. У них должна быть определенная модель заболевания. Выходит, что для того, чтобы проект стал успешным, он должен сразу ориентироваться на глобальный рынок. Для этого все исследования должны производиться в сертифицированных центрах, лабораториях особого стандарта. Пока у нас таких лабораторий практически нет. Вот и получается, что люди у нас чудесные, но нужно задуматься о том, как подтянуть инфраструктуру.
– Неужели даже Сколково не может предоставить исследователям соответствующие мировому стандарту лаборатории?
– Такие лаборатории строятся в Сколково, но мы сможем помочь только части проектов. Проблема в том, что объем исследований, проводящихся в России, значительно больше. Мы просто не сможем вместить все. В этой ситуации, конечно же, необходима помощь Минздрава. Нужно, чтобы к этой проблеме подключился и Минпромторг. Насколько мне известно, оба ведомства работают в данном направлении, и нам нужно дождаться результата.
– Значит, пока продолжается утечка кадров и светлых умов из нашей страны?
– Сейчас мы наблюдаем интересную картину. Есть как кадровый отток, так и кадровый приток. И я не шучу. Существуют проекты, стартующие в нашей стране, которые способны самостоятельно создать себе необходимую инфраструктуру. В этом случае они работают не только с нашими специалистами, но и приглашают сюда коллег из-за рубежа. Это могут быть как наши бывшие соотечественники, так и иностранцы. В лаборатории одного из наших резидентов работает группа из 23 специалистов, и все они приехали из других стран.
– Глобальная индустрия, глобальные задачи. Выходит, что сегодня вообще сложно говорить о науке в границах конкретного государства?
– Все правильно. Знание никогда не имело прописки Это связано в том числе и с развитием биологии. Дело в том, что подбор лекарства в идеале должен осуществляться на основании данных конкретного человека. С ростом знаний человеческих разработки идут все по более и более узким каналам. Такая тенденция особенно заметна в сфере онкологических исследований. Это значит, что если раньше с определенными рисками разработка могла помочь группе в 100 000 человек, то сейчас она будет ориентирована на группу с конкретной патологией, с конкретным геном. И их будет 10 000 человек. Но зато побочных эффектов будет значительно меньше, а терапевтический эффект будет больше. Нужно разработать такое средство и произвести его. Но при этом те 10 тысяч человек скорее всего будут находиться в разных уголках света, а одного завода для производства такого препарата хватит на весь мир.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Холин, замдиректора «Квантум фармасьютикалс», резидента центра «Сколково»:
– Мы создали технологию, позволяющую находить лекарственные молекулы с принципиально новыми механизмами действия. С ее помощью мы разработали препараты против рака нового поколения — ингибиторы гликолиза.
Это вещества, приводящие процесс окисления глюкозы на отметку, соответствующую здоровому организму. Результатом действия препаратов становится остановка роста опухоли и повышение ее чувствительности к другим препаратам и к иммунному ответу организма. Разработка находится на стадии доклинических исследований.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ И АНАЛОГ: РАЗНИЦЫ НЕТ
Михаил Каневский, врач скорой помощи:
- Скорая помощь работает с теми препаратами, которыми ее обеспечивают. Их выбираем не мы, а наше руководство. Медикаменты разные — отечественные и зарубежные. К примеру, ношпа венгерская, а анальгин, папаверин и магнезия российские. Перед каждым введением лекарства мы спрашиваем больного, есть ли у него аллергия на препарат. Важно знать, что врач скорой помощи назначить лекарство не может.
Мы приезжаем на вызов и действуем по обстановке в зависимости от жалоб пациента. Назначает медикаментозное лечение только участковый врач. Он должен и может отслеживать, как действует лекарство на человека. Скорая помощь не имеет такой возможности.
Если говорить о том, какими препаратами располагает сегодня столичная скорая помощь, то это в первую очередь жаропонижающие медикаменты, например анальгин. Также в нашем арсенале есть ряд гипотензивных препаратов, помогающих справиться с давлением, — капотен, каптоприл, капозид и прочие. Есть и средства для улучшения кровоснабжения головного мозга. Я уже не говорю про бинты, шины, кислород, препараты, необходимые при сердечных приступах, инфарктах и инсультах.
Московская скорая полностью обеспечена, в отличие от наших региональных коллег. Я общаюсь в интернете с врачами из других областей России. Постоянная тема — нехватка препаратов и машин. Есть проблемы и в Подмосковье. Не во всех городах у скорой помощи есть гаражи, не говоря уже о том, что они должны быть отапливаемыми. В ряде случаев в декабрьскую погоду некоторые препараты охлаждаются, что затрудняет работу.
Что касается сравнения импортных и отечественных препаратов, нужно смотреть на результат, выяснять, что работает лучше. Если помогает именно импортное лекарство, то стоит переплатить. К тому же у нас очень много подделок именно отечественных препаратов. Они относительно дешевые, и их значительно легче продать.
Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы № 71:
- Говоря о зарубежных лекарствах и их отечественных аналогах, серьезно отличающихся по цене, мы должны понять: такая ситуация сложилась сейчас во всем мире. В любой стране можно увидеть брендовые лекарства и так называемые дженерики, их, говоря грубо, копии.
Если посмотреть на препарат в красивой упаковке, к примеру, адалат, то под крупными буквами можно увидеть надпись мелким шрифтом — нифедипин. Это и есть название лекарства, но разные фирмы могут называть его по-разному.
Фирмы разрабатывают лекарства, испытывают, доводят до ума и получают патент на несколько лет. По окончании срока его действия фирма обязана поделиться своей разработкой со всеми остальными. Другие компании могут наладить свое производство подобного препарата — дженерика. Стоит он уже на порядок дешевле. С точки зрения фармакологии, это одно и то же средство.
Я работал во многих странах, в том числе и в Африке, и всегда использовал дженерики.
Разница незаметна. Куда большая проблема — это подделка лекарств. Всем известны случаи, когда мы покупаем препарат, в котором даже лекарства нет. Речь идет о дорогостоящих, фирменных медикаментах. Это целый подпольный бизнес, который предлагает тебе купить красивую упаковку, заплатить большие деньги и ничего в результате не получить. Иногда это явление достигает огромных масштабов. Контрафакт у нас есть, но сколько его на прилавках — это вопрос.
Врачи не выписывают более дешевые средства чаще не из-за того, что кто-то дает им откат. Они просто не знают названий препаратов. Отсюда, кстати, идет очень много ошибок. Я всегда призываю изучать названия дженериков. Бывает даже, что врач выписывает больному два одинаковых препарата с разными названиями, не понимая, что это одно и то же, а так давать лекарства нельзя.
Давно пора ввести персональное лицензирование врача. Если его заметят в выписывании лекарств за откаты, лицензию надо отбирать и просто выгонять из профессии. В лучшем случае — приостанавливать лицензию, чтобы в ситуации разбирался комитет по этике, если не суд. В худшем — отбирать диплом. За нарушение он должен заплатить огромный штраф. Сегодня врач ничего не боится. У нас нет инструмента воздействия на него.