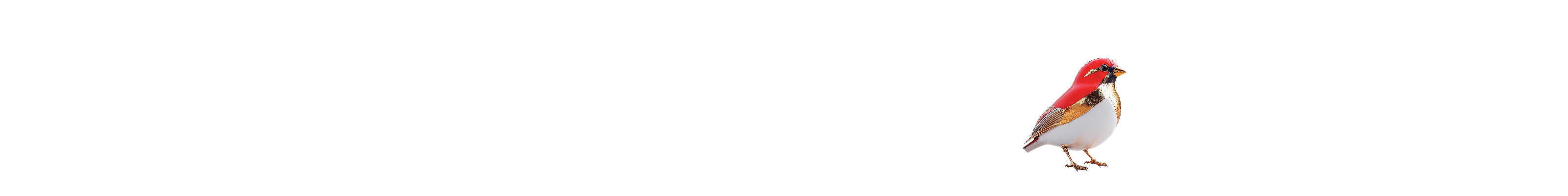Андрей Житинкин: По трупам не ходил ни разу
[i]В его работах — все перченое и острое: то два часа ненормативной лексики (спектакль «Игра в жмурики»), то лесбийская любовь («Ночь трибад»), то вместо надушенного, кружевного Жоржа Дюруа — потный, грязный наемный убийца («Милый друг»).Есть, правда, и гораздо более существенное режиссерское качество: исключительно бережное отношение к актерам. Не случайно с ним любят работать «самые-самые»: Яковлев, Гурченко, Ширвиндт, Жженов, Полищук… К тому же у Житинкина интуиция на талант: там, где другие режиссеры видят лишь эффектную фактуру, он открывает звезд, и московская сцена получает премьеров: Домогарова, Чонишвили, Безрукова, Ларису Кузнецову, Андрея Ильина… [b]Житинкина[/b] приглашают на постановки самые разные театры. Житинкин нарасхват: теперь уже работает и магия имени.[/i][b]— Вы ведь родом из Владимира, города не особенно театрального… Может быть, родители актеры? [/b]— Нет, ученые-химики.[b]— Значит, «запах кулис» исключается. Тогда что? [/b]— Мама с папой часто уезжали в командировки; я был предоставлен самому себе — все книжные шкафы в доме были в моем распоряжении.Очень рано прочел и «Милого друга», который во времена нашего детства считался «порнографическим» романом, и вообще все то, что сейчас ставлю. Все, что узнавал, хотелось продлить в воображении. Я обожал что-то прочесть, потом увидеть во сне, а потом разыграть самому с собой...Еще одно детское впечатление — «Андрей Рублев». Тарковский снимал его именно у нас. Мне безумно понравился этот хрупкий, пронзительный человек в кепочке. Он сидел на кинематографическом кране, командуя «татарским нашествием». Меня поразило, как один человек может, по сути, заново формировать пространство. Я спросил, кто это, и мне объяснили, что — режиссер, который за все тут отвечает и которого тоже зовут Андрей. Может, отсюда все и началось… После школы я с первого захода поступил в Щукинское училище на актерский факультет, окончил его с красным дипломом, и Евгений Рубенович Симонов, у которого я играл дипломный спектакль, привел к себе на режиссерский курс.[b]— Он был сильным педагогом? [/b]— Честно говоря, тогда он мне казался нелепым, не приспособленным к жизни, смешным. Он мог час музицировать на рояле (играл великолепно!), вспоминая классику. Затем еще час читать Пастернака и рассказывать, как в детстве сидел у поэта на коленях и как они играли в прятки. И Пастернак, и многие другие великие были приятелями его отца, Рубена Николаевича Симонова. Евгений Рубенович вырос среди богемы и всю жизнь сохранял ее отпечаток во всем, включая галстук-бабочку и безупречные стрелки на брюках. Музыка, поэзия часто вытесняли на его занятиях непосредственно театр, анализ пьес.Тогда это нас, молодых-зубастых, раздражало, а теперь я думаю: насколько же он был прав! Потому что театр не может быть вне атмосферы. Театр всегда апеллирует к метафорам, и потому вне поэзии он вообще ничто! О судьбе Евгения Рубеновича тоже часто думаю. Как главного режиссера Вахтанговского театра (он стал им после смерти отца) его обязывали ставить «гражданские» пьесы, а он этого не умел и ставил «Три возраста Казановы», идущий до сих пор. Позднее он не мог понять перестроечные дела и почему все кругом ставят чернуху или «Диктатуру совести» и получают за это госпремии. А потом его и вовсе «ушли» из театра, чего он не вынес. Если честно, я живу с ощущением какой-то миссии, поскольку я — единственный его ученик с его последнего курса, оставшийся в режиссуре.[b]— Где же остальные? [/b]— В Канаде, Израиле, Америке… У одного своя психиатрическая клиника (вот где пригодилась режиссура!), другой — метрдотель ресторана, третий выгодно женился… И никто не ставит спектаклей. Только я один. Поэтому я ни Россию, ни Москву, ни наш русский театр ни на что не променяю.[b]— Почему так печально сложились судьбы ваших однокурсников? [/b]— Мы начинали в застойное, «невыездное» время. И когда железный занавес рухнул, начались зарубежные гастроли, поездки на фестивали абсурдистского, андеграундного театра — захотелось увидеть что-то еще, еще… Хотелось глотка свободы, но этот глоток оказался чреват. Сначала кажется, что «там» можно работать, но очень скоро выясняется, что ты никому не нужен. Когда приезжаешь на гастроли или по приглашению поставить спектакль-другой, с тобой носятся. Но как только ты пытаешься встроиться в профессию всерьез, тут же возникают профсоюзы: они на Западе невероятно сильны. Все поделено.Иерархия железная. И тогда приходится выбирать между жизнью на Западе и театром. Один из моих сокурсников, который удачно женился на американке, владелице компьютерной фирмы, пишет мне страшные письма. У него есть любимое развлечение, когда жена уезжает и он остается в огромном доме один: пытается пустой бутылкой из-под виски попасть в венецианское зеркало на другом конце анфилады комнат. Он заперт в золотой клетке и потихоньку спивается… [b]— Значит, конкуренции со стороны однокашников не было изначально? А как насчет других коллег? [/b]— «По трупам» не ходил ни разу. Но мне хотелось бы подробнее ответить на этот вопрос, потому что критика раз и навсегда зачислила меня в «плейбои московской сцены». «Везунок», мол, и все у него в порядке. Да, это сейчас, но как жутко все было вначале! Еще студентом поставил с Сережей Чонишвили и Людой Артемьевой «Цену» Артура Миллера. А Миллер у советских властей пребывал в немилости — выступил против ввода наших войск в Афганистан. Спектакль не выпускали, ребята не могли защитить дипломы. Спас случай. Чингиз Айтматов пригласил Миллера на Иссыккульский форум (приехали и Болдуин, и Маркес). На обратном пути, в Москве, они дали пресс-конференцию, на которой Миллер заявил, что больше в Советский Союз никогда не приедет, поскольку ни одна из его пьес здесь не идет. И вдруг журналист протягивает ему программку моего закрытого спектакля. Мы все равно играли его втихую — в учебном театре ГИТИСа… Миллер удивлен и счастлив, а эпизод проходит в эфир программы «Время» и — спектакль разрешают! Но был закрыт «Старый квартал» Теннесси Уильямса в «Современнике». А потом случилось и вовсе страшное: прямо на премьере «Калигулы» (по пьесе Камю) в театре Ермоловой умер Всеволод Семенович Якут, великий мастер… Этот спектакль мы очень долго не могли играть — у актеров был психологический шок. А у меня — ощущение несостоявшейся жизни: за что ни возьмусь — все плохо кончается. Правда, старые ермоловцы мне тогда нашептали, что в театре приметы сбываются с точностью до наоборот. И действительно, в конце концов «Калигулу» возобновили. Выручил Саша Пашутин. Он прежнего спектакля не видел, «комплекса» у него не было, и он — молодой, спортивный, энергичный — ввелся на роль старика. Спектакль идет до сих пор, уже восемь лет. А я вскоре получил приглашение руководства Театра Моссовета поставить у них «Собачий вальс» Леонида Андреева. И только после этого все «пошло».[b]— Андрей, может быть, я обижу вас, но мне вы представляетесь не столько режиссером эпатирующим, сколько традиционалистом. Просто вы тяготеете к традициям конца XIX — начала XX века: декадансу, символизму, стилю модерн, отсюда и некоторая «эстетизация порока»… Вы словно бы пытаетесь связать начало и конец нашего столетия.[/b]— Точно! Я часто размышляю над тем, как вычислить эту вертикаль. Не могу отделаться от одного детского впечатления. В одном владимирском храме я долго наблюдал за работой мастера-реставратора. Перед ним была икона XIX века, а внутри проступало что-то еще. Мастер мне говорит: «Знаешь, мы раскрыли там XVII век».Я спрашиваю: «А не лучше ли тогда только его и оставить?». Он отвечает: «Нет, XIX век тоже на дороге не валяется, пусть все сохраняется на одной доске, тем более что вот этот ангелочек — вообще XIV век. Мы специально это все не срезаем. Посмотри, какая вертикаль!».С тех пор это для меня метафора времени — когда на одной доске проступают разные лики. Я понял, что настоящее искусство — это вертикаль, которую надо отыскать и сохранить. И если этого нет в пьесе — я начинаю придумывать, искать традиции, корни… Актерам сразу становится интересно играть. В последнем из поставленных мною спектаклей — «Нижинский, сумасшедший божий клоун» в Театре на Малой Бронной — действие происходит как раз в начале нашего века. На репетиции актеры спрашивали, насколько они соответствуют реальным Стравинскому, Кокто, Баксту… Я им сказал: «Играйте только из себя, минимум портретного сходства. Потому что закулисный мир не изменился, страсти — те же самые!».[b]— Родители вами довольны? [/b]— Ну конечно! Я ведь был ими избалован: единственный сын! Что хотел, то и делал, и они совершенно спокойно относились ко всем моим зигзагам. А я — то учился десять лет подряд, хотя в моем возрасте давно уже пора было зарабатывать на жизнь, то ничего из поставленных пьес не шло. И сейчас, когда все кругом кувырком и престиж искусства падает, они меня очень поддерживают морально. Хотя не буду Бога гневить — это кинематограф зачах, а театр очень даже пользуется спросом.